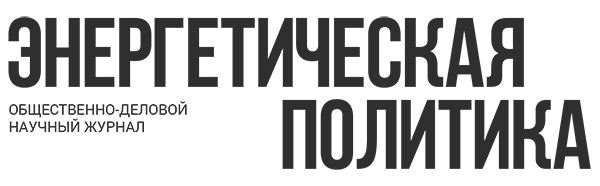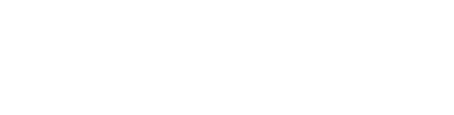Октай МАМЕДОВ
Ведущий научный сотрудник ВИНИТИ, к. т. н.
E-mail: mamedovoktay@yandex.ru
Энергохозяйства стран Средней Азии до приобретения независимости функционировали в рамках единой энергосистемы «ОЭС Средняя Азия» с центром управления в городе Ташкент, где процесс управления выработкой и перетоками энергии между странами определялся потребностью. Энергосистема объединяла энергохозяйства Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и юга Казахстана. Основой энергохозяйств стран Средней Азии являются природные ресурсы – гидроэнергия для Таджикистана и Киргизии, газ для Туркменистана, уголь и газ для Узбекистана и уголь для Казахстана. В суммарном производстве энергии странами в основном присутствует генерация на базе ископаемого топлива. При этом большинство электростанций оснащено оборудованием со сроком эксплуатации свыше 40 лет, которое морально и физически давно устарело.
После обретения независимости каждая из стран стала проводить самостоятельную энергетическую политику, опираясь на собственные ресурсы, что привело к дисбалансу в части устойчивого и надежного энергоснабжения. Основой для стран является энергетическая безопасность, для обеспечения которой требуется комплекс мер, связанных с надежным и качественным энергоснабжением. Распад «ОЭС Средняя Азия» привел к замыканию энергохозяйств стран в собственные рамки, что породило множество проблем.
Экономическое развитие стран Средней Азии заметно отличается по показателям ВВП на душу населения. Так, для Казахстана этот показатель составил в 2021 г. – 10268 долл. США, в 2022 г. – 11625 долл. США, для Туркменистана – 8804 и 10420 долл. США, для Узбекистана – 2042 и 2322 долл. США, для Киргизии – 1339 и 1649 долл. США, для Таджикистана соответственно 917 и 1054 долл. США [1]. В рейтинге стран по оценке ООН наивысшее положение среди стран Средней Азии занимают Казахстан – 87 место, Туркменистан – 90 место, Узбекистан – 163 место, Киргизия – 172 место и Таджикистан – 187 место среди рассматриваемых 214 стран мира. Место в рейтинге предопределяет возможности страны в рамках энергетического перехода в соответствии с принятыми обязательствами в рамках Парижского соглашения по климату от 2015 г. по сдерживанию потепления на 1,5 градуса по Цельсию на планете к 2050 г.
Энергосбережение Средней Азии заключается в модернизации установок генерации энергии, ее передачи и потреблении, как пути к снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Оборудование со сроком эксплуатации свыше 40 лет и более характеризуется заметными потерями энергии по всей цепи энергоснабжения. Только в звене передачи энергии потери составляют от 20% и более. Модернизация энергохозяйств потребует значительных финансовых вложений, что вызывает в странах определенные трудности.

Источник: m.ru24.net
Существующий автономный режим работы энергохозяйств стран привел к дисбалансу, когда мощности ГЭС Таджикистана и Киргизии несли пиковые нагрузки и выполняли функцию регулирования частоты в энергосистеме, а ТЭС Узбекистана, Туркмении и юга Казахстана несли базовую нагрузку, и зимой шла передача энергии в Таджикистан и Киргизию. Разрыв связей привел к тому, что зимой загружаются ТЭС для снятия пика нагрузки, что сопровождается дополнительными выбросами вредных веществ. Так, жесткие зимы 2020–2021 гг. привели к дополнительному потреблению угля в Казахстане и Узбекистане, и как следствие, к дополнительному выбросу вредных веществ в атмосферу [2]. Туркменистан обладает большим объемом доказанных запасов природного газа, что выдвигает страну на 5 место в мире после России, Ирана, Катара и США – это делает его положение более благоприятным [3]. Страна экспортирует энергию в Иран и Афганистан.
Разрыв связей наиболее заметно отразился на Таджикистане и Киргизии, энергохозяйства которых базируются на единственном ресурсе – гидроэнергии. ГЭС стран в рамках единой энергосистемы выполняли функции ирригации и регулирования энергосистемы. В рамках автономного функционирования, когда стоит задача обеспечения энергобезопасности, возникают напряжения с соседними странами [4]. Разрыв связи между странами в рамках «ОЭС Средняя Азия» привел к нарушению баланса и устойчивого функционирования энергохозяйств, трудностям при прохождении зимних сезонов. После распада связей каждая из стран перешла к двухсторонним договорам. Так, Таджикистан, где 70% электроэнергии обеспечивает Нурекская ГЭС, готов выполнять регулирование частоты в сетях при условии, что соседние страны будут готовы делиться своей электроэнергией [5]. Казахстан, где 75% выработки электроэнергии приходится на северо-восток страны, а потребители на юге, для укрепления связи построил ЛЭП‑500 для обеспечения пика потребителей юга страны, пропускная способность которой была увеличена ввиду уменьшения передачи энергии со стороны Узбекистана. Это улучшило энергоснабжение, но риски дефицита зимой сохраняются [6]. Развал энергосистемы сильно ударил по Таджикистану, где основным источником производства электроэнергии являются ГЭС, сезонно вырабатывающие энергию, потребность в которой зимой покрывал Узбекистан. Выход Узбекистана из энергосистемы привел к серьезным трудностям энергоснабжения потребителей зимой в Таджикистане. Для снижения напряжения в баланс вовлекались местные ресурсы – уголь Шурабского месторождения, что приводит к росту выбросов вредных веществ в атмосферу.

Правительство страны для снятия напряжения отдает приоритет дальнейшему строительству Рогунской ГЭС, что по оценке Узбекистана приведет к водному дисбалансу. Международные финансовые организации – Азиатский банк развития и Всемирный банк – не выделяют финансовые средства ввиду отсутствия согласия сторон по трансграничной реке. Киргизия также испытывает трудности с энергоснабжением ввиду отсутствия прироста генерирующих мощностей. Строительство Верхне-Нарынской ГЭС приостановлено из-за прекращения финансирования от внешних инвесторов. Узбекистан, будучи крупнейшим производителем электроэнергии в регионе с установленной мощностью более 12 ГВт, в основном ТЭС, работающих в базовом режиме, пик покрывал за счет внешних источников энергии. Выйдя из состава «ОЭС Средняя Азия» в 2009 г., страна стала покрывать пики нагрузки за счет выработки электроэнергии на газовых ТЭС. Это потребовало дополнительных поставок газа и вызвало дефицит электроэнергии зимой.
В целом можно констатировать, что распад «ОЭС Средняя Азия» наиболее сильно повлиял на Таджикистан и Киргизию. Для Узбекистана это привело к образованию дефицита электроэнергии. У Туркменистана и Казахстана положение более выигрышное ввиду наличия достаточного количества угля и газа для обеспечения потребности в энергии, что сопровождается дополнительными выбросами вредных веществ в атмосферу для всех стран Средней Азии, энергохозяйства которых работают в автономном режиме.
В сложившихся условиях страны принимают на себя обязательства по снижению выбросов вредных веществ в рамках Парижского соглашения по климату. Для выполнения принятых обязательств необходимо наличие ресурсной, законодательной, материальной, финансовой баз, которые еще необходимо сформировать.
Наиболее сложное положение связано с формированием финансовой базы. Если для формирования законодательной базы необходимо принятие соответствующих документов в виде законов и постановлений, то для финансовой базы необходимо наличие ресурсов. Тарифы как источник финансовых ресурсов для стран Средней Азии в нынешнем положении не в состоянии играть эту роль. Это связано с тем, что тарифы на энергию из-за низкой платежеспособности населения субсидируются правительствами стран региона. Так, по данным Азиатского банка развития, Туркменистан имеет самые низкие тарифы на электроэнергию. Субсидируемые тарифы в условиях малодоходной экономики Киргизии делают частные инвестиции в возобновляемую энергетику малопривлекательными. Заниженная плата за энергию оборачивается отсутствием средств для модернизации существующей инфраструктуры энергохозяйств. Доля субсидий на энергию в Узбекистане составляет 23%, Туркменистане – 26%, Казахстане – 11% [7]. Субсидии не позволяют конкурировать с чистыми технологиями. Для стран Средней Азии сложилась сложная ситуация, при которой существуют возможности для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но отсутствуют финансовые ресурсы для их освоения.
С позиций возобновляемых источников энергии каждая из стран обладает значительным потенциалом. В Туркменистане и Узбекистане это солнечная энергия, в Таджикистане и Киргизии – гидроэнергоресурсы, в Казахстане – ветровая энергия. Опираясь на свои базовые ВИЭ, каждая из стран разработала программу освоения ВИЭ, нормативно-правовую базу, приняла закон о возобновляемой энергии и ряд правительственных постановлений. Так, Туркменистан наметил снижение выбросов вредных веществ на период до 2030 г. в объеме 20% по сравнению с 2010 г. Потенциал солнечной энергии оценивается в 300 ТВт·ч, ветровой энергии – в 20 ТВт·ч. Правительство Туркменистана утвердило дорожную карту международного сотрудничества в сфере водородной энергетики. Основным сырьем для производства водорода являются природный газ и электроэнергия на базе ВИЭ. Рассматриваются 2 варианта производства водорода – минимальный, с объемом 1,8 млн т и максимальный, в 5,4 млн т. При максимальном варианте рассматривается возможность использования электролизеров производительностью по 320 тыс. т и установок обратного осмоса производительностью по 80 т для опреснения морской воды. В качестве источника энергии рассматриваются ветропарки на шельфе Каспийского моря, технический потенциал ветровой энергии которых оценивается в 17,5 ГВт [8]. Максимальный вариант рассчитан на экспорт. Выход на внешние рынки приводит к необходимости создания инфраструктуры, включая терминалы и специализированный транспорт. Опыт стран, развивающих водородную энергетику, показал, что для исполнения проектов необходимы заемные средства.
Для Таджикистана и Киргизии основными ВИЭ являются гидроэнергоресурсы. Согласно экспертной оценке Всемирного банка, гидроэнергетический потенциал Киргизии составляет 142 млрд кВт·ч, гелиоэнергетический – 500 млн кВт·ч, ветроэнергетический – 50 млн кВт·ч. Практическое использование – 1%. Всемирный банк в рамках программы «Развитие возобновляемой энергетики Киргизии», которая рассчитана на 10 лет, одобрил финансирование на сумму 80,2 млн долл. на усиление электрических сетей и сооружение мелких ГЭС общей мощностью 20 МВт. Программа предусматривает достижение к 2030 г. суммарной мощности солнечных и ветровых электростанций в 700 МВт [9]. Таджикистан, согласно оценке Международного энергетического агентства (МЭА), обладая гидроэнергетическим потенциалом в 527 ТВт·ч, – 8 место в мире – использует лишь 4%. Страна с количеством 300 солнечных дней в году и плотностью солнечного потока в 2000 кВт·ч на 1 м2 поверхности в год обладает потенциалом солнечной энергии в 3,1 ТВт·ч. Ввиду особенностей ландшафта, площадь, которая может быть использована для размещения СЭС, составляет 1,5 тыс. м2, что составляет 1% от общей площади страны. Потенциал ветровой энергии оценивается в 60 ГВт. Освоение ветровой и солнечной энергий находится на начальном этапе. Таджикистан во исполнение обязательств Парижского соглашения принял закон «Об использовании возобновляемых источников энергии», постановление Правительства Таджикистана «О программе освоения ВИЭ и строительства малых ГЭС» и целевую комплексную программу по широкому использованию ВИЭ [10]. Росту масштаба использования ВИЭ способствует распоряжение комитета по архитектуре и строительству по обязательному использованию солнечной энергии при проектировании и эксплуатации новых зданий и сооружений. Требования касаются зданий любого назначения, где солнечная энергия будет использоваться для освещения мест общего пользования [11]. Развитие солнечной энергетики осуществляется совместно с фирмой Masdar, которая подписала меморандум с правительством страны на реализацию проектов мощностью 500 МВт, а также китайской компанией Eging PV Technology о строительстве СЭС мощностью 200 МВт и стоимостью 150 млн долл. на территории свободной экономической зоны «Пяндж». Согласно дорожной карте по развитию возобновляемой энергетики, в Таджикистане к 2030 г. суммарная мощность ВЭС и СЭС составит 700 МВт с участием иностранных компаний при финансовой поддержке международных институтов [12]. В стране сооружено порядка 300 малых ГЭС, намечено к сооружению еще 600, потенциал которых оценивается в 18 млрд кВт·ч. Однако в развитии гидроэнергетики существуют риски, связанные с уровнем воды в реках, который снижается из-за глобального изменения климата и таяния ледников Памира и Тянь-Шаня. Программой развития возобновляемой энергетики предусматривается сотрудничество с международными финансовыми организациями. С привлечением средств Всемирного банка предусмотрено сооружение малых ГЭС общей мощностью 7600 кВт, СЭС – 3570 кВт, ВЭС – 3084 кВт, аккумуляторов емкостью 251 кА на общую сумму 17,8 млн долл. Это позволит обеспечить электроэнергией 2400 домохозяйств в удаленных селах горного Бадахшана. В реализации проектов возобновляемой энергетики участвуют Евросоюз, Республика Корея, Швейцария, США. В целом для реализации программы потребуется в местном исчислении 1,007 млн сомони, из которых на долю бюджета страны приходится лишь 3,6 млн сомони. Практически вся программа финансируется за счет внешних источников. В рекомендациях Всемирного банка отмечается, что завершение строительства Рогунской ГЭС проектной мощностью 3,78 ГВт в 2034 г. позволит увеличить внутреннее потребление электроэнергии, снизить импорт жидкого топлива. Ожидается, что до 70% вырабатываемой электроэнергии может быть экспортировано в соседние страны.
Если Киргизия и Таджикистан в своих планах развития возобновляемой энергетики опираются на гидроэнергетические ресурсы, которые в совокупности составляют свыше 70% гидроэнергоресурсов стран Средней Азии, то Казахстан и Узбекистан в планах развития возобновляемой энергетики опираются на солнечную и ветровую энергии. Узбекистан в 2018 г. ратифицировал Парижское соглашение, взяв на себя обязательства снизить к 2030 г. выбросы вредных веществ на 10% от уровня 2010 г. Реализовывать намеченную цель запланировано за счет развития возобновляемой энергетики, повышения энергоэффективности и других мер, заявленных в стратегии по переходу страны на «зеленую» экономику в период до 2030 г. В стратегии заявлена новая цель – снизить выбросы вредных веществ на 35% к 2030 г. Достижение цели обеспечивается генерацией энергии на базе ВИЭ в объеме 27% от суммарного значения выработки электроэнергии, двухкратным повышением энергоэффективности ВВП, модернизацией инфраструктуры промышленности за счет широкого применения чистых технологий. Базой для заявленной доли выработки энергии на базе ВИЭ служит потенциал солнечной энергии страны, который составляет 51 млн т нефтяного эквивалента (т н. э.), потенциал гидроэнергоресурсов – 9,2 млн т н. э., ветровой энергии – 2,2 млн т н. э. [13]. Принятые законы «Об использовании возобновляемых источников энергии» и «О государственно-частном партнерстве» создают правовую основу для ускорения реализации проектов возобновляемой энергетики, что потребует ввод до 10 ГВт новых мощностей, из которых на долю СЭС – 5ГВт, ВЭС- 3ГВт, ГЭС – 2,9ГВт (малые реки, ирригационные каналы, водотоки). В рамках принятых законов разработаны инструменты стимулирования использования ВИЭ в виде льгот и преференций для организаций, вырабатывающих энергию на базе ВИЭ номинальной мощностью 100 кВт, а также специализирующихся на выпуске таких установок. Утвержден порядок подключения к сетям субъектов производства энергии на базе ВИЭ. Введен порядок, по которому с 01.01.2020 г. за счет средств бюджета страны физическим и юридическим лицам предоставляется компенсация расходов на приобретение солнечных панелей и водонагревателей. С 1 января 2022 г. в зданиях и учреждениях, находящихся на балансе государства, обязаны использовать сертифицированные солнечные водонагреватели ввиду отключения последних от централизованного отопления. В концепции производства электроэнергии на 2030 г. намечена выработка в объеме 121 млрд кВт·ч, из которых на долю ГЭС приходится 10,8%, ВЭС – 8,6%, СЭС – 8,2%. В рамках обеспечения выработки энергии на базе ВИЭ вводятся СЭС мощностью по 100 МВт в Самаркандской и Навойинской областях, 600 МВт – в Сурхандарьинской и Джизакской областях, ВЭС – 400 МВт в Навойинской области. Все проекты реализуются с привлечением иностранных участников – Total, Masdar, ACWA Power, China Gezhonde. С 2023 г. социальные объекты обязаны покрывать не менее 25% потребления горячей воды и наружного освещения за счет ВИЭ. При размещении на своих участках установок на базе ВИЭ компании и частные лица освобождаются от уплаты имущественного и земельного налогов, не требуются разрешительные документы, компенсируются расходы в размере 30% от понесенных. В целом к 2030 г. намечено довести мощность возобновляемой энергетики до 27 ГВт, что позволит сэкономить 25 млрд м3 газа и сократить выбросы вредных веществ на 34 млн т [14].
Особенностью энергохозяйства Казахстана является зональность, что связано с размещением источников энергии и потребления. Наличие больших запасов угля на востоке страны предопределило центр производства энергии, тогда как география ВИЭ выделяет южную и западную зоны страны. При плотности потока солнечной энергии в 1620 кВт·ч на 1 м2 поверхности и длительности 2200 часов, потенциальной зоной размещения СЭС являются Туркестанская, Жамбульская, Кызылордынская, Алматинская области. Потенциал солнечной энергии по стране может удовлетворить 25% потребности в электроэнергии, что позволит снизить выбросы вредных веществ в объеме 6 млрд т в год. Согласно экспертным оценкам, потенциал ветровой энергии оценивается в 1820 млрд кВт·ч. Наиболее выгодными зонами размещения ветрогенераторов являются Алматинская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Туркестанская, Мангистауская области. Среди представленных Мангистауская область, запад Казахстана, является наиболее предпочтительной территорией с позиции потенциала ветровой энергии – 50 ГВт. В стране действуют объекты на базе ВИЭ с установленной мощностью 2,9 ГВт, которые выработали в 2023 г. 5,92% от суммарного производства электроэнергии. Было введено 16 объектов ВИЭ с общей мощностью 495,6 МВт, сумма инвестиций 450 млн долл. [15]. В 2023 г. были подписаны соглашения с зарубежными инвесторами из ОАЭ, Франции, Китая на сооружение трех ВЭС с общей мощностью 3 ГВт. Планируется в ближайшие 5 лет ввод установок ВИЭ с общей мощностью 14 ГВт. Основой развития возобновляемой энергетики служит закон «О поддержке использования возобновляемой энергии». Поставлена задача достижения доли 15% от общего производства электроэнергии к 2035 г. и свыше 50% – к 2050 г. В соответствии с законом, для производителей чистой энергии предусмотрена возможность реализации энергии в сети общего пользования по фиксированным тарифам через расчетно-финансовый центр поддержки ВИЭ, который гарантирует закупку энергии от установок ВИЭ. Производители, согласно закону, освобождаются от оплаты услуг энергопередающих организаций в приоритетном порядке. Нормативно-правовая база формирования возобновляемой энергетики Казахстана ориентирована на создание благоприятной сферы для привлечения иностранных инвестиций. Конкретные показатели представлены в Стратегии «Казахстан – 2050» [16]. В 2021 г. правительство страны и немецко-шведская группа Svevind Energy GmbH подписали соглашение о строительстве комплекса по производству «зеленого» водорода в объеме 2 млн т в год на западе страны в Мангистауской области, омываемой водами Каспийского моря. Выбор места обусловлен характером и скоростью ветра на рассматриваемой территории, наличием земель, не охваченных с/х производством, возможностью транспортировки водорода на экспорт через Каспийское море, воды которого после очистки используются в электролизерах для производства водорода. Сочетание этих факторов предопределило выбор места размещения комплекса со стороны иностранных специалистов [17]. Согласно проекту, комплекс будет полностью автономным. Электроэнергия от ВЭС и СЭС с общей мощностью 40 ГВт в соотношении 70 и 30% соответственно, по ЛЭП (750 кВ) подается на электролизные установки с общей мощностью в 20 ГВт. Вода для процесса электролиза обеспечивается установками опреснения морской воды на базе обратного осмоса. Проект стоимостью 50 млрд долл. будет проходить в 2 этапа. На 1 этапе, именуемом Hydrogen One, предусматривается ввод 20 ГВт установок ВИЭ. Инвесторам, помимо основных технологических звеньев производства водорода, необходимо будет создать полную структуру комплекса, включая экспортный терминал, дороги, собственную электрическую сеть. Также необходимо создать систему подготовки кадров для эксплуатации комплекса в количестве 1800 человек, из которых 90% – местные кадры. Строительство проекта должно быть начато в 2027 г., а завершено – в 2032 г. Финансирование предусматривается консорциумом, включающим Европейский банк реконструкции и развития, Банк развития Китая, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Азиатский банк развития и Правительство Казахстана в соотношении 75 и 25% соответственно [18]. Cоздание комплекса по производству водорода осуществляется в рамках Стратегии «Казахстан – 2050», где водородная энергетика выступает в качестве одного из приоритетов развития энергохозяйства страны. При национальной нефтяной компании «Казмунайгаз» создан Центр компетенции по водородной энергетике, который функционирует с апреля 2022 г. В рамках экспортной ориентации комплекса в 2024 г. в Астане Казахстан совместно с Узбекистаном и Азербайджаном подписал меморандум об экспорте водорода через Каспийское море в Европу. Основой для подписания меморандума послужила заинтересованность Евросоюза в странах Средней Азии как источника чистой энергии.
Развитие энергетики стран Средней Азии в рамках достижения целей Парижского соглашения связано с формированием новой отрасли возобновляемой энергетики и модернизацией энергетического хозяйства при ограниченных собственных финансовых ресурсах. Одним из условий выполнения целей является формирование общего рынка энергии между странами в рамках общей энергосистемы, которое возможно при наличии политической воли руководителей стран Средней Азии. Скорейшее формирование общего рынка энергии и восстановление связей обеспечит надежное прохождение пиков потребления энергии в рамках общей энергосистемы, способствует ограничению выбросов вредных веществ по сравнению с автономным функционированием, формированию финансовых ресурсов для модернизации энергохозяйств и развитию возобновляемой энергетики. Так, по оценке Всемирного банка, переток энергии между странами Средней Азии составляет 10% от уровня 1990 г. В случае восстановления связи эффект только по резервированию мощности составит 1,9 ГВт, а ежегодная экономия – до 1,2 млрд долл. [19]. В процессе развития энергетики стран Средней Азии появляются дополнительные возможности по экспорту энергии в зарубежные страны, что повышает роль региона в глобальной повестке энергетического перехода.