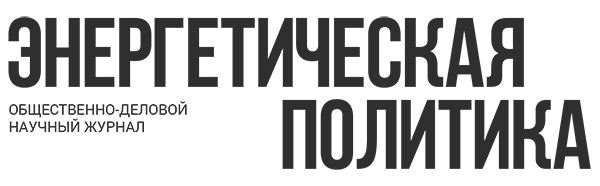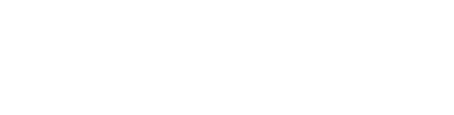Дмитрий ХОЛКИН
Генеральный директор АНО «Центр
энергетических систем будущего «Энерджинет»
Е-mail: dvh@internetofenergy.ru
Игорь ЧАУСОВ
Директор аналитического направления
АНО «Центр энергетических
систем будущего «Энерджинет»
Е-mail: chi@internetofenergy.ru
Можно ли перейти к технопромышленному укладу киберфизических систем и искусственного интеллекта на базе старых энергетических технологий? Могут ли интеллектуальные роботы питаться энергией от угольных станций или они будут привередливо потреблять только «зеленую» энергию от ВИЭ? Влияет ли энергетика на новый скачок роста производительности экономики или её потенциал в данной сфере уже исчерпан?
Ответы на эти вопросы помогут нам найти новые смыслы энергетического перехода. Согласно наиболее распространенному представлению, проходящая во всем мире трансформация энергетики связана в первую очередь с ответом на климатические вызовы, а во главу угла поставлена цель снижения выбросов парниковых газов. Однако развитие всегда носит комплексный характер, и существуют другие «углы» и точки зрения, исходя из которых тот же самый энергопереход выглядит иначе: в контексте этих аспектов он наделяется другими смыслами. Мы обсудим энергопереход в контексте смены технопромышленного уклада во взаимосвязи с третьей (по некоторым классификациям – четвертой) промышленной революцией.
Косвенные ответы на заданные вопросы подсказывает нам стимпанк – направление научной фантастики, подразумевающее альтернативный вариант развития человечества, в совершенстве освоившего механику и технологии паровых машин. В мире стимпанка нет электричества, а тем более цифрового компьютерного управления. Заводы и фабрики, оружие, транспортные средства (в т. ч. летательные аппараты), бытовые приборы, вычислительные машины и роботы здесь аналоговые и создаются при помощи самых изощренных, но далеких от совершенства современной техники механических технологий, подпитываемых энергией пара. Примечательно, что такой мир обычно выражен общей стилизацией под эпоху викторианской Англии (вторая половина XIX в.) и эпоху раннего капитализма с характерным городским пейзажем и контрастным социальным расслоением. Стимпанк метафорически демонстрирует нам, что остановка в развитии энергетики ограничивает появление нового технопромышленного уклада и тормозит развитие общества.
В недавно опубликованной статье «Энергетический переход с инженерной точки зрения» мы показали, что существует корреляция между этапами развития техники, волнами экономического (технопромышленного) развития и энергетическими укладами [1]. В фантастическом мире стимпанка мы наблюдаем механический этап развития техники, апогей первой промышленной революции, тотальность парового энергоуклада. В настоящей реальности человечество уже прошло следующий, электрический этап развития техники и связанные с ним промышленную революцию и становление электрического энергоуклада. Более того, сейчас полным ходом разворачивается электронный (киберфизический) этап развития техники, создавая технологическую базу для новой промышленной революции. И возникает закономерный вопрос: как должна вписываться в этот цивилизационный процесс трансформация энергетики?
Наша гипотеза состоит в том, что смена энергетического уклада сущностно определяется появлением качественно новой техники и критическим образом влияет на систему хозяйствования, и, как следствие, на развитие общества. В частности, индикатором такого влияния является показатель производительности труда или производительности экономики.
Производительность труда – основная цель плана ГОЭЛРО
В материалах столетней давности о подходах к электрификации России, подготовленных комиссией ГОЭЛРО во главе с Глебом Кржижановским, встречается мысль, которая не присуща современной энергетической политике. Она переворачивает привычную последние десятилетия в отрасли логику развития: не энергетика подстраивается под перспективы развития экономики, а, наоборот, проект ее изменения «является красной руководящей нитью для всей созидательной хозяйственной деятельности, строительными лесами для плана развития экономики» [2]. Можно, конечно, считать этот тезис устаревшим вместе с практикой государственного планирования. Однако и вопрос взаимного влияния энергетики и экономики, и ответ на него сегодня, как и тогда, остаются принципиально важными.
В начале XX в. был дан однозначный ответ на этот вопрос. Авторы плана ГОЭЛРО считали, что поскольку «целью всякой хозяйственной деятельности является достижение наибольших результатов при наименьших усилиях», то ключевым показателем плана развития экономики и его ключевой составляющей – плана электрификации – является производительность труда. По их мнению, «производительность может быть повышаема в 3 направлениях:
путем интенсификации труда, то есть большей его напряженности в единицу времени;
путем механизации, то есть заменой мускульных усилий людей и животных энергией механической;
путем рационализации, то есть упорядочения труда на разумных основаниях» [2].
Электрификация системы хозяйствования «является могучим фактором, действующим во всех этих трех направлениях» [2]:
Интенсификация труда увеличивается за счет повышения быстроты и скоординированности всевозможных механических операций. «Электрический привод обеспечивает любые требуемые скорости движения (вращения), при этом дает возможность выделить тот или иной ответственный элемент производства на самостоятельно работающий электромотор», тем самым позволяя гибко организовывать производственный процесс.
Широкая механизация становится возможной благодаря развитию сетевой энергетики на основе централизованных электрических районных станций. Масштабные энергетические системы позволяют поставлять энергию в разные точки страны, «оплодотворяя ею все подразделения народного хозяйства».
Рационализация труда обеспечивается за счет комплексного проектирования и планирования, при которых «отпадает весь ненужный балласт так называемых излишних непроизводительных издержек, результат взаимной неслаженности отдельных частей работающего организма, перепроизводство в одной области и недопроизводство в органически с ней связанной соседней, перекрест движущихся грузов и т. д. и т. п.». Электрификация позволяет снять ограничения на подвод энергии к любому комбинату, заводу, участку производства, тем самым обеспечивая возможность рационального размещения и организации производственных цепочек.
В результате Первой мировой войны и двух революций в России на момент разработки плана ГОЭЛРО была крайне низкая производительность труда. Например, катастрофической расценивалась ситуация в сельском хозяйстве: «низкая производительность труда, малая величина душевых норм потребления, примитивность первоначальной обработки добываемых продуктов, а следовательно, их низкая рыночная ценность и транспортная громоздкость». Эта ситуация усугублялась тем, что значительная часть мужского населения деревень находилась в армии.
На этом фоне возможности, которые открывала электрификация сельского хозяйства, были спасительными. Она позволяла обеспечить механизацию мелиоративных работ, которые требуются постоянно в силу условий российского климата, обработку почвы специальной техникой, которую надо проводить в короткие периоды времени из-за особенностей вегетационного периода, переход за счет механизации труда от трехполья к сложному севообороту и глубокой пахоте, внедрение очистительных и сортировальных машин для семенного дела. Это способствовало замещению тяжелого труда людей машинами, прекращению использования скота в качестве рабочей силы, развитию промышленного скотоводства, производству минеральных удобрений и многому другому.
В целом в качестве полезных свойств электричества, позволяющих решить задачу повышения производительности труда, авторы плана ГОЭЛРО рассматривали «дробимость электрической энергии, техническое совершенство небольших электромоторов, сравнительно легкую проводимость электрической энергии на больших пространствах, простоту эксплуатационного ухода за электрическими установками» [2]. Эти свойства очень органично вписались в решение актуальных в то время задач развития системы хозяйствования, изменения производственных процессов в различных отраслях экономики, обеспечения быстрого экономического роста и улучшения уровня жизни населения.
Ставка авторов плана ГОЭЛРО на форсирование роста производительности труда оказалась верной. Его практическая реализация положила основу индустриализации и резкого экономического роста в России. К 1935 г. вместо запланированных 30 электростанций было построено 40. Мощность районных электростанций составила 4,34 млн кВт – в 2,5 раза больше, чем по плану ГОЭЛРО, а выработка электроэнергии в стране в 13,5 раз превысила уровень 1913 г. К 1936 г. производительность труда в промышленности превысила довоенный уровень более чем в 2,5 раза по годовой выработке и более чем в 3,5 раза по часовой выработке. По уровню промышленного производства Советский Союз вышел на первое место в Европе и на второе в мире [3].
Производительность труда в России в настоящее время
Чтобы понять ситуацию с производительностью труда в современной России, необходимо проанализировать временную динамику этого показателя сравнительно с другими странами мира.
В последние годы стали доступны материалы исторической статистики, публикуемые в рамках проекта Мэддисона. На рис. 1 отражена динамика производительности экономики на душу населения в Российской империи, СССР и РФ по отношению к аналогичному показателю в США (и Великобритании до 1913 г.), задающему текущий масштаб. Эти данные в наглядной форме приоткрывают реальное положение вещей. С конца 1950‑х до начала 1980‑х гг. величина сопоставленной производительности отечественной экономики испытывала колебания вокруг максимального значения за всю полуторавековую историю. В 1980‑е гг. начался спад, приостановленный ненадолго во время реформ Андропова. А затем, после обвала 1990‑х гг., эта величина так и не вернулась к достигнутому в 1970‑х гг. потолку, испытывая после 2007 г. флуктуации около значения в 70% от советского уровня [4]. Кроме того, необходимо отметить, что даже в лучшие времена производительность труда в России составляла чуть более 50% от уровня производительности труда в США.

Эти данные можно интерпретировать так, что в начале XX в. Россия смогла осуществить переход к новому технопромышленному укладу, связанному со второй технологической революцией и электрическим этапом развития техники. Однако в 1980‑е гг., когда передовые экономики мира вскочили на следующую экономическую волну и начали активно переходить на электронный этап развития техники, мы по различным причинам не смогли это сделать в должной мере, и экономические показатели стали снижаться относительно растущего уровня лидеров.
Сегодня, согласно макроэкономическим оценкам, российская экономика характеризуется относительно низким уровнем производительности труда, в 2–3 раза уступая в данном отношении экономикам индустриально развитых стран. По мнению экономистов, разрыв в производительности труда между Россией и ведущими зарубежными странами обусловлен преимущественно более низким уровнем совокупной факторной производительности (СФП), которая определяется технологическим уровнем и капиталовооруженностью [5]. Наряду с этим вклад уровня развития человеческого капитала в отставание России от ведущих зарубежных стран по производительности труда весьма невелик.
По мнению аналитиков Высшей школы экономики, более низкая производительность труда в России по сравнению с ведущими зарубежными странами отчетливо прослеживается и на микроуровне: у подавляющего большинства компаний базовых несырьевых отраслей производительность труда не выше, а в большинстве случаев – значимо ниже, чем у иностранных конкурентов. При этом несколько меньшее отставание от зарубежных фирм демонстрируют относительно недавно созданные предприятия и компании с участием иностранных собственников, а также инвестиционно активные фирмы [5].
Помимо показателя производительности труда, база которого определяется численностью работающего населения, используется показатель производительности территории, в котором экономический выход соотносится с площадью территории. По этому показателю ситуация в России еще хуже. Сегодня Россия располагает девятой частью всей земной суши. Удельная производительность её территории составляет всего лишь 15% от среднемировой, т. е. не от уровня лидеров, а от уровня середняков-троечников [4].
Признавая важность качественного развития экономики, Правительство Российской Федерации инициировало в 2018 г. национальный проект «Производительность труда». Инициатива реализует комплексный подход, включающий проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности на средних предприятиях – участниках программы – с целью определения резервов повышения производительности труда, введения региональных налоговых льгот, субсидирования процентных ставок по кредитам на цели, связанные с ростом производительности труда (например, на модернизацию производства), а также обучающие программы на предприятиях.
Однако, по мнению экспертов, реализуемая государством политика по стимулированию роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях делает существенный акцент на обучении сотрудников предприятий и внедрении улучшающих инноваций в организационной сфере, в то время как основные потребности компаний для повышения производительности труда состоят в технологических инновациях, обновлении парка оборудования, повышении отдачи от работников и увеличении продаж на рынках [5].
Технологические инновации в сфере энергетики тоже оказывают заметное влияние на производительность труда. В частности, исследование, проведенное Европейским инвестиционным банком, показывает, что рост инвестиций в энергоэффективность на 1% дает увеличение производительности труда на 0,05–0,15% [6]. Однако гораздо больший эффект инновации в энергетику вызывают косвенным образом, они создают условия для раскрытия потенциала нового технопромышленного уклада, для реализации новых практик, приводящих к стремительному росту производительности.
В майском указе 2024 г. о национальных целях развития Российской Федерации указана важная роль производительности труда в обеспечении роста и укрепления экономики страны [7]. Предстоит переломить тенденцию к спаду российской производительности, создав растущее ядро нового уклада, новой хозяйственной деятельности. Возникает вопрос – поможет ли энергетика сформировать новую систему хозяйствования и решить проблему производительности экономики России и, если да, то каким образом?
Понятие производительности экономики
Производительность труда остается важным показателем, характеризующим уровень развития экономики. В микроэкономике производительность труда измеряется количеством продукции, выпущенной работником за единицу времени. В макроэкономике – объемом валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) в расчете на одного занятого или на отработанные часы.
В дальнейшем мы будем в основном говорить не о производительности труда, которая соотносится с числом затраченных трудовых ресурсов, а о совокупной факторной производительности (или просто о производительности экономики). Данный показатель является мерой способности экономики (системы хозяйствования) генерировать доход из вводимых ресурсов – делать больше с меньшими затратами ресурсов. Вводимыми ресурсами, о которых идет речь, являются факторы производства страны, в первую очередь труд, предоставляемый ее населением, а также ее земля, машины и инфраструктура. Если экономика увеличивает свой совокупный доход, не увеличивая вводимые ресурсы, или если экономика сохраняет свой уровень дохода, используя меньше ресурсов, говорят, что она имеет более высокую производительность экономики [8]. Такая трактовка производительности может рассматриваться как мерило долгосрочных технологических изменений, или технологической динамики.

Для того, чтобы лучше оценить влияние энергетики на производительность экономики, необходимо различить её основные факторы. В данном вопросе мы будем использовать подход, сложившийся в инженерной практике и системном анализе. Мы выше уже упоминали факторы производительности, которые использовал в работе над планом ГОЭЛРО Глеб Кржижановский: интенсификация, механизация (индустриализация), рационализация. Позже главный конструктор, ученый и философ Побиск Кузнецов в качестве основных факторов производительности выделял энерговооруженность, технологическое и социальное совершенство труда.
Но мы будем использовать подход, предложенный российским системщиком, философом и педагогом Сергеем Чернышевым. Он поясняет его так: «Производительность любой человеческой деятельности в конечном счёте сводится к тому, что общество присваивает силы и вещества природы, которые, будучи соединены определённым способом, и производят нужную обществу работу» [4]. В этой связи производительность экономики – «матрёшка из целого ряда институтов, где совокупная хозяйственная мощность, упирающаяся в физический КПД, «изнутри» ограничивается и обуславливается организационной эффективностью, а та, в свою очередь, содержит «кощееву иглу» экономической стоимости» [4].
В соответствии с данным подходом мы будем экономику (систему хозяйствования) понимать как множество производительных сил, присваивающих силы и вещества природы и преобразующие их в нужные обществу продукты и результаты. Производительность экономики в таком случае зависит от доступной мощности производительных сил, эффективности их использования и капитализации результатов их работы (полезности применения). Соответственно, факторами роста производительности системы хозяйствования в такой концепции являются рост технологического совершенства, организационной эффективности и общественной капитализации производительных сил.
На примере реализации плана ГОЭЛРО можно продемонстрировать, каким образом формирование электрического энергоуклада стало определяющим условием для наступления второй промышленной революции, развития системы хозяйствования и обеспечения роста ее производительности в России (см. таблицу 1).

реализации факторов производительности в рамках второй промышленной революции
Соответственно, чтобы ответить на вопрос о влиянии энергетики на складывающийся технопромышленный уклад, необходимо четко понимать, как новые энергетические технологии и практики обеспечивают рост производительности системы хозяйствования.
Новая промышленная революция и требования к энергетике
Система хозяйствования, возникающая в результате третьей (или четвертой по другой классификации) промышленной революции, определяется масштабным использованием киберфизических систем. В технологическом аспекте необходимо отметить такие новые её проявления как цифровизацию производства, применение аддитивных и нанотехнологий, повсеместное внедрение искусственного интеллекта. В организационном аспекте – переход к роботизации, распределенным производственным мощностям, масштабное развитие беспилотного и бездорожного транспорта. В части общественной капитализации можно отметить тренд на технологизацию институтов рынка на основе цифровых платформ, планирование на основе больших данных, шэринг вещей, гибкость и мобильность практик.
Именно эти изменения предопределят стремительный рост производительности экономики в ближайшие годы. Ключевыми драйверами этого роста станут в части технологического совершенства – развитие производственных технологий и новый уровень автоматизации производства, в части организационной эффективности – рост скорости логистики и межсистемной слаженности, в части общественной капитализации – технологизация институтов рынка.
В частности, аналитики McKinsey Global Institute отмечают, что новая промышленная революция приводит к следующему уровню автоматизации деятельности предприятий, что позволит им сократить непроизводительную работу и ошибки, повысить качество и скорость работы, а в некоторых случаях и обеспечить результаты, которые выходят за рамки человеческих возможностей. Они оценивают, что такая автоматизация может обеспечить рост производительности на 0,8–1,4% в год [9].
А российский ученый-экономист Юрий Плакиткин указывает на большое влияние на производительность экономики изменения скорости перемещения людей и грузов. Им установлено, что средняя скорость перемещений зависит от квадрата калорийного эквивалента используемого «топлива» (плотности энергии). То есть, если в 2 раза повышаешь плотность энергии – в 4 раза вырастет скорость перемещений, а следовательно, примерно в той же пропорции – и производительность труда [10]. Наступающая роботизация промышленности, сельского хозяйства и транспорта и использование новых источников энергии, благодаря данному фактору, приведут к существенному росту производительности.
Уже упомянутый ранее Сергей Чернышев считает, что наступающий этап развития общества (им предложено название этого этапа «техноэкономика») будет характеризоваться систематической трансформацией стихийных институтов рынка в управляемую производительную силу, продвижением фронта экономических технологий, заменой трансакций рынка экономическими платформами. Это позволит существенно нарастить общественную капитализацию за счет снятия трансакционных издержек существующих процессов обмена, вовлечения в оборот активов, ранее блокированных запретительным уровнем рыночных трансакций, снятия рисков и неопределенностей. Это также приведет к существенному росту производительности экономики [4].
В данном контексте необходимо обратить внимание на следующие основные вызовы, брошенные энергетике:
- Повсеместное (в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, сфере услуг, ЖКХ) применение роботизированных устройств, использующих компактные источники энергии.
- Переход к новому уровню электрификации производственных процессов в промышленности и сельском хозяйстве с одновременным переходом к новым технологиям, обеспечивающим рост точности применения энергии.
- Масштабное развитие цифровой экономики и рост спроса на электроэнергию высокого (цифрового) качества.
- Энергоснабжение систем производства и жизнедеятельности вдали от централизованных энергетических инфраструктур.
Масштабное развитие высокоскоростной, беспилотной и бездорожной транспортных мобильностей, требующее использование компактных источников энергии высокой плотности и доступной зарядной и\или заправочной инфраструктуры.
Потребность в быстром разворачивании, масштабировании и сворачивании систем энергоснабжения для обеспечения динамичного и гибкого развития новых бизнес-практик.
Рост взаимозависимости коммунальных инфраструктур (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, утилизация мусора, зарядка роботов и электротранспорта) в городах с одновременным повышением экологических и эстетических требований к ним.
Обеспечение надежности работы систем энергоснабжения в условиях критических внешних воздействий (климатических изменений, военных действий, кибернетических атак).
Старый энергетический уклад не может в должной мере обеспечить эти изменения системы хозяйствования: предлагаемые им решения будут по каким‑то потребительским характеристикам (доступность, экономичность, экологичность, надежность, качество) не устраивать новые предприятия и отрасли. Прежде всего, это связано с тем, что традиционная энергетика базируется на крупных энергетических мощностях, иерархически организованной сетевой инфраструктуре, централизованном планировании и управлении.
Обобщая потребительские требования к энергетике, можно утверждать, что энергосистемы должны приобрести новые свойства:
- Качество – способность систем энергоснабжения обеспечивать потребителей растущего сегмента цифрового спроса электроэнергией с высокими характеристиками качества и надежности. Это свойство поддерживается использованием накопителей энергии, силовой электроники, цифрового управления.
- Автономность – способность систем энергоснабжения поселений, отдельных потребителей, мобильных устройств и транспортных средств получать энергию из локальных источников, запасать её, повышать её плотность и эффективно использовать, тем самым существенно снижая зависимость от крупной централизованной генерации и поставок топлива. Это свойство поддерживается использованием компактных источников энергии высокой плотности, распределенных источников энергии и энергетической гибкости, умных распределительных сетей, фотонных, в частности, лазерных технологий.
- Интеллектуальность – способность осуществления энергообмена и развития энергосистемы в темпе изменения потребности, автоматического управления существенно более сложными инфраструктурными системами и множественными, динамичными, кастомизированными сервисами на их базе. Это свойство поддерживается использованием цифрового моделирования, масштабируемых архитектур, цифровых рынков и сервисов.
Энергетические факторы повышения производительности экономики
Рассмотрим несколько примеров, демонстрирующих создание энергетических условий для реализации новых практик, приводящих к существенному повышению производительности экономики.
Энергетика для экономического освоения «неудобий». Решая проблему роста производительности территории России, мы должны говорить о масштабном экономическом освоении физических и экономических «неудобий» Восточной Сибири, Дальнего Востока и Арктики. Одним из ограничивающих факторов развития экономической деятельности на этих территориях является низкая доступность и высокая стоимость энергии.
Энергосистема предыдущего энергетического уклада, построенная на основе крупных централизованных источников энергии, единой инфраструктуры её передачи и распределения, централизованного диспетчерского управления не может физически «дотянуться» до потребителей, распределенных по большой территории. Их энергоснабжение обычно обеспечивается дизельной генерацией, для работы которой необходимо регулярно поставлять дизельное топливо, в результате себестоимость электроэнергии составляет в среднем по таким территориям РФ около 67 руб. за кВт·ч, что почти в 10 раз больше стоимости электроэнергии в централизованной зоне.
Технологии нового энергетического уклада, такие как генерация на основе ВИЭ в оптимальном сочетании с традиционной топливной генерацией, атомные станции малой и сверхмалой мощности, использование источников энергетической гибкости (накопителей энергии, управляемой нагрузки), интеллектуальное цифровое управление, взаимная интеграция электро- и теплоснабжения обеспечивают рост экономической эффективности систем энергоснабжения в этих территориях на 30–40%. Энергоснабжение изолированных и труднодоступных территорий в таком подходе обеспечивается вводом меньшего количества топливных ресурсов и меньшим трудом. Сейчас в России происходит постепенный переход к использованию автоматизированных гибридных энергетических комплексов (АГЭК) для развития локальной энергетики, в частности, данный подход применяет ПАО «РусГидро» [11]. В пределе технологии самообеспечения энергией «на месте» позволяют достичь полной топливно-энергетической автономии по приемлемой цене в любой точке страны.
Энергетика для новых производственных технологий. Современным трендом развития производственных технологий является их цифровизация, состоящая в использовании высокоточных станков, систем цифрового моделирования, проектирования и управления, а также в роботизации производственных процессов. Это позволяет существенно повысить их производительность за счет снижения энерго- и ресурсоемкости, например, в результате применения аддитивных технологий, а также за счет более эффективного использования производственной мощности в результате гибкой их организации.
Такие производственные системы чувствительны к надежности и качеству энергоснабжения, которые не могут обеспечить традиционные энергетические технологии. Например, стартап Element Zero развивает технологию, позволяющую за счет перехода от высокотемпературных металлургических процессов к электрохимическим процессам получать высокочистые металлы и другое сырье (железо, медь, никель, олово, титан, вольфрам, кремний, углерод) с большей энергетической эффективностью, чем классическая и даже электрометаллургия. Снижение удельного энергопотребления на единицу продукции достигает 30–40% в сравнении с классическими металлургическими методами [12]. Производство высокочистых металлов достигается вводом меньшего количества энергетических ресурсов. Однако для выполнения таких электрохимических процессов необходим постоянный ток с высокими характеристиками качества, в первую очередь, постоянства уровня напряжения. Недостаточный уровень качества электроэнергии отрицательно сказывается на экономике электрохимической металлургии, повышая долю брака и снижая межремонтный ресурс основного оборудования.
Обеспечение высокой надежности и качества энергии происходит за счет резервирования энергоисточников собственной генерацией или системами накопления энергии, применения преобразовательной техники на основе силовой электроники, интеллектуального управления. А задействование роботов требует использование мобильных источников энергии (об этом следующий пример).
Энергетика для мобильных роботов и транспортных аппаратов. Роботизация промышленности, сельского хозяйства и транспорта является мощным фактором роста производительности труда. Роботы могут работать круглые сутки, их использование в гибких интеллектуальных производственных системах обеспечивает минимальные простои и непроизводительные издержки, они могут работать в условиях, в которых не сможет работать человек. Выполнение производственных и логистических процессов при роботизации происходит за счет меньших затрат труда (человеко-часов). При этом они обеспечивают высокую точность, четкость и быстроту выполнения операций. Для пространственного развития применение роботизированных производств позволяет высокотехнологично осваивать территории, а использование беспилотных летательных аппаратов обеспечивает высокую степень транспортной связности даже в труднодоступных районах.
В майском указе 2024 г. о национальных целях развития Российской Федерации поставлена задача: вхождение к 2030 г. Российской Федерации в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации. Для её выполнения потребуется освоить целый класс новых энергетических технологий.
Долгосрочные миссии мобильных роботов должны быть обеспечены накопленным запасом энергии, производством энергии на борту, доступом к инфраструктуре зарядки и заправки роботов по мере необходимости. Здесь необходимо осуществить переход к источникам энергии более высокой плотности, в частности, использование водорода может увеличить плотность запаса энергии в 2–3 раза относительно углеводородных источников, а это даст многократный прирост к скорости и дальности перемещения.
Кроме того, необходимо развивать и другие технологии. Автономные источники, получающие энергию из окружающей среды, преобразователи других видов энергии в электрическую позволят в какой‑то мере получать энергию на борту. Электрохимические технологии создают возможности для накопления энергии. Силовая электроника позволяет интегрировать различные источники энергии робота в комплекс, а также подключаться к заправочной инфраструктуре. Цифровые технологии обеспечивают интеллектуальное управление системой энергоснабжения робота, что особенно актуально в случае гибридной архитектуры, использующей различные источники энергии [13].
Энергетика для постиндустриальных городов. Продолжающаяся урбанизация приводит к дальнейшему росту городов при одновременном качественном изменении их организации и городских процессов. Можно упомянуть следующие ключевые изменения: уход из городов крупных промышленных производств и развитие постиндустриальных форм занятости (цифровой экономики, сферы услуг и впечатлений), стремление к более экологичной и комфортной для жизни городской среде, конкуренция за свободное место и доставку мощностей и ресурсов, наполненность разнообразными роботами и мобильными устройствами. Эти процессы приводят к росту подушевого валового регионального продукта постиндустриальных городов за счет двух факторов: концентрации экономических процессов на территории (постиндустриальная занятость оказывается более компактной) и более высокой добавленной стоимости труда в цифровой экономике в сравнении с индустриальными процессами. По существу, постиндустриальные города вместо производства продукции массового спроса перешли к «производству бизнесов», сконцентрировав экономические усилия на разработке новых технологий, товаров и услуг, которые затем реализуются в виде промышленных производств, вынесенных за пределы города. В итоге за счет ввода такого же количества энергетических и материальных ресурсов и того же или даже меньшего количества труда (числа занятых и времени их работы), в постиндустриальном городе обеспечивается получение большего валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, чем в индустриальном.
Городская инфраструктура в настоящее время становится более комплексной и динамичной, она превращается в легко масштабируемую мультиинфраструктуру. Интеллектуальная электрическая сеть становится «несущей» для реализации других коммунальных услуг (теплоснабжения, холодоснабжения, освещения улиц, водоснабжения и водоотведения, зарядки электромобилей и роботов, утилизации мусора). В городах становится востребованным все многообразие технологий нового энергетического уклада. Во всем мире появляются такие новые практики как активное управление сетью, создание микрогридов, организация локальных энергетических рынков, которые помогают эффективно и надежно управлять сложными городскими инфраструктурами. В России подобные практики также применяются, например, при застройке СберСити под Москвой.
Заключение
Наш анализ показал, что производительность системы хозяйствования напрямую или опосредованно зависит от используемых энергетических технологий и организации энергетической системы. Наиболее ярко это демонстрирует история реализации в России плана ГОЭЛРО, приведшая к кратному росту производительности. И это влияние очевидно, т. к. электрификация страны отвечала на потребность новой промышленной революции в масштабной механизации на основе электрической техники.
Новая промышленная революция определяется переходом к масштабному использованию цифровых технологий, киберфизических систем и искусственного интеллекта – в этом ее суть. Применение этих технологий дает новый уровень роста производительности экономики как в отраслевом, так и в территориальном разрезах. Для обеспечения смены технопромышленного уклада нужны энергетические решения с такими новыми свойствами как автономность, качественность и интеллектуальность. Они позволят экономически осваивать труднодоступные территории, развивать высокотехнологичные производства, роботизировать промышленность, сельское хозяйство и транспорт, создавать и гибко развивать комплексные инфраструктуры для постиндустриальных городов.
Конечно, можно себе представить, что новый технопромышленный уклад будет формироваться на основе старых энергетических технологий – центры обработки данных для AI будут «питаться» от угольных станций, роботы будут подключены к сети или будут работать на бензине, а цифровое качество энергии и надежность энергоснабжения будут обеспечиваться на стороне потребителей. Но эти решения будут неуклюжими, неэффективными, ненадежными, неэкологичными, а главное – они не позволят существенно нарастить производительность экономики.
Надо осознать, что новый энергетический переход – это комплексное явление, которое возникло не только и не столько для преодоления климатического кризиса, а еще и для развития новых видов экономической деятельности, для пространственного развития и освоения территорий, для энергетического обеспечения новой промышленной революции. Стратегический план развития энергетики, который сейчас формируется в Российской Федерации, как и план ГОЭЛРО 100 лет назад, должен быть ориентирован на повышение производительности системы хозяйствования страны.
Статья подготовлена при поддержке Фонда поддержки проектов НТИ и Министерства высшего образования и науки Российской Федерации в рамках реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет».