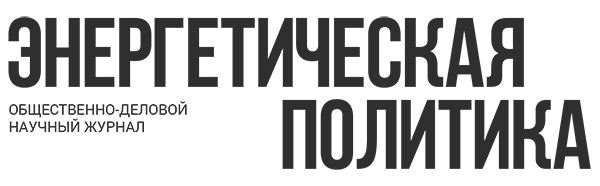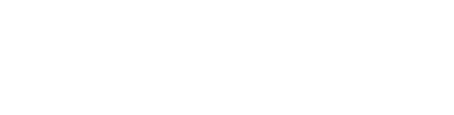Владимир ДРЕБЕНЦОВ
Главный советник генерального директора РЭА Минэнерго России, к. э. н.
Николай ИВАНОВ
Директор проекта РЭА Минэнерго России, доцент кафедры международного нефтегазового бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, к. э. н.
Валерий СЕМИКАШЕВ
Заведующий лабораторией ИНП РАН, к. э. н.
«Прогнозы – дело сложное, особенно трудно прогнозировать будущее» , – эта формула Нильса Бора вполне применима к сегодняшним попыткам аналитических агентств предсказать направления развития мировой энергетики. Неудивительно, что слово «прогноз» давно вышло из оборота в этой профессиональной среде. Никто не хочет нести ответственность за решения, принятые на основании неудачных прогнозов, поэтому для описания и обсуждения будущих событий в англоязычной традиции принят термин outlook, не имеющий адекватного русского перевода. Речь, как правило, идет о сценарном моделировании будущего развития, зависящем от определенных исходных предпосылок. В РЭА подготовлен доклад «Сценарии развития мировой энергетики до 2050 г.» , показывающий возможные пути развертывания глобального энергоперехода.
Наши сценарии основаны на понимании, что альтернатив энергопереходу нет, мир стоит перед необходимостью переходить на низкоуглеродную модель развития, вопрос лишь в скорости и масштабе грядущих преобразований, а также последствиях для экономики и общества. Поэтому рассмотрены три сценария развития энергетики – инерционный, революционный и промежуточный. Соответственно, они называются «Все как встарь», «Чистый ноль» и «Рациональный технологический выбор». Первый и второй сценарии подробно рассматривать едва ли стоит – они исходят из нереалистичных предпосылок: либо развитие энергетики ведёт к необратимым и неприемлемым климатическим изменениям, либо оно потребует чрезмерных ресурсов, концентрация которых в энергетике поставит под удар достижение других важных социально-экономических целей. Остается третий путь, его и обсудим.
«Рациональный технологический выбор» каждая из стран и каждый из 11 макрорегионов, рассмотренных в докладе РЭА Минэнерго России, делает по-своему. Есть общие закономерности, есть логика технологического развития, но сильны и региональные различия. Попробуем сосредоточиться на теме, актуальной именно для России – какой мы видим рациональный технологический выбор для нашей страны на горизонте до 2050 г.
Россия, как и большинство стран мира, объявила о климатических целях – в нашем случае достижение чистых нулевых выбросов парниковых газов должно произойти к 2060 г. Времени еще много, кажется, что можно не спешить с принятием мер по радикальному сокращению углеродного следа промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунальной отрасли, транспорта и т. д., тем более что есть задачи и более срочные, и более насущные. Но дело в том, что энергетика – сфера инерционная, и зачастую решения, касающиеся отдаленного будущего, нужно принимать уже сейчас.
Российские перспективы
Наш подход основан на отказе от ложной дихотомии: либо достижение климатических целей, либо экономическое развитие. Рациональный технологический выбор предполагает, что можно добиваться снижения углеродоемкости экономики, не подвергая угрозе решение других важных социально-экономических задач. Для этого стоит не занимать крайнюю позицию с требованием остановить финансирование проектов по добыче углеводородов, а сделать упор на применение наиболее конкурентоспособных низкоуглеродных энергетических технологий. В результате можно добиться результата по снижению углеродного следа от энергетики без ущерба для экономического развития.
Задача декарбонизации актуальна для всех регионов мира, но для России она приобретает особую окраску. Десятилетиями наша страна была энергоизбыточной. Мы экспортировали нефть, газ, уголь и электроэнергию. Причем не всегда напрямую, иногда в косвенном виде – газ, например, можно экспортировать в форме выработанных с его помощью минеральных удобрений, а электроэнергию – в виде энергоемкой продукции (в частности, алюминия). При этом внутреннее использование энергоресурсов не всегда отличалось эффективностью. Поэтому повышение энергоэффективности – мощный, еще недостаточно использованный ресурс по экономии энергии, а значит, и сокращению выбросов при совершенствовании технологического уровня во всех отраслях – от строительства и ЖКХ до транспорта и промышленности.
Ещё один путь снижения углеродного следа – изменение структуры потребляемых энергоресурсов в секторах экономики. Особенно важны изменения в электроэнергетике.
Моделирование сценария РТВ для России показало, что в структуре потребляемых энергоресурсов для выработки электроэнергии (см. рис. 1) главные изменения будут связаны с использованием возобновляемых источников энергии. По отношению к 2020 г. в 2050 г. использование энергии ветра вырастет почти на три порядка и составит 29%. У других ВИЭ показатели чуть скромнее – солнечная генерация вырастет в 66 раз и составит 5%, использование вторсырья вырастет более чем в 7 раз, но в итоге её доля составит лишь 1% – столько же, сколько у водорода, использование которого в энергетике будет делать первые шаги. Выработка ГЭС вырастет на 68% и составит 18% в общей структуре. Геотермальная и приливная энергия вырастут более чем в 6 раз, но в общей выработке составят лишь 0,15%. Биогаз и жидкое биотопливо по нашим оценкам заметной роли в выработке электроэнергии в этом сценарии играть не будут.

Что касается традиционных видов энергоресурсов, то использование природного газа сократится на 14%, при этом в балансе топлив для электростанций потребление газа обеспечит 25%. Потребление угля снизится на 30%, до 7,6%. Атомная генерация вырастет на 15% и обеспечит 13%-ю долю. Использование нефтепродуктов в выработке электроэнергии снизится до нуля.
Если рассматривать выработку тепловой энергии, то конкурентов у природного газа так и не появится – его доля вырастет с 76% в 2020 г. до 89,5% в 2050 г. Доля угля снизится с 18,6% в 2020 г. до 2,7% в 2050 г. При этом уголь в балансе энергоресурсов для выработки тепла окажется только на третьем месте, пропустив вперед вторсырье/отходы, которые нарастят свою долю с 2,5 до 7,8%. Больше никакие энергоресурсы значимой доли в выработке тепла иметь не будут – потребление нефтепродуктов снизится до нуля, а жидкое биотопливо так и останется у нулевой отметки.

Распределение первичных энергоресурсов по секторам экономики России по сценарию РТР выглядит следующим образом. Нефть укрепит свою роль как транспортное топливо: доля транспорта в потреблении жидких углеводородов вырастет с 42% в 2020 г. до 53% в 2050 г. Вторая важная роль нефти – сырье для промышленности (нефтехимии), эта доля вырастет – с 26% в 2020 г. до 46% в 2050 г. Остальное – в пределах погрешности.
Потребление газа по секторам более диверсифицировано. Главная роль газа сохраняется –выработка электроэнергии. Но доля общего потребления газа, приходящаяся на электрогенерацию, снизится с 61% в 2020 г. до 49% в 2050 г. Доля ЖКХ в потреблении газа также снизится с 16% в 2020 г. до 10% в 2050 г. При этом вырастет более чем в два раза доля промышленности в потреблении газа – с 14 до 33%.
В сценарии РТВ в России бурное развитие технологий, связанных с производством и потреблением биотоплива (твердого, жидкого и газообразного) соответствует общемировым тенденциям, но это развитие началось практически с нулевой базы и до сих пор ощутимого присутствия биотоплива в энергобалансе не просматривается – даже на горизонте 2050 г. Рис. 5 показывает, что биотопливо будет использоваться в производстве электричества, на транспорте, в ЖКХ и в промышленности – в соотношении 63%, 12%, 19% и 6% соответственно, но сами эти отрасли заметного влияния биоэнергетики пока не ожидают.
Рациональный выбор
О чем говорят вышеприведенные цифры, в чем тут рациональный выбор? За каждой цифрой стоят предполагаемые темпы развития технологий, которые уже показали свою перспективную конкурентоспособность. Завтра всё может измениться. Биотопливо, которое пока перспективно лишь на уровне статистической погрешности, может оказаться спасительной технологией.
Один пример. ExxonMobil несколько лет назад продвигала революционную идею производства биотоплива третьего поколения – выращивания в пустынных прибрежных регионах сине-зеленых водорослей в бассейнах, наполненных морской водой. При минимальном расходовании дефицитных ресурсов из этих водорослей можно было получить биометанол – автомобильное топливо, способное произвести революцию на нефтяном рынке. Эта блестящая идея, как впоследствии выяснилось, в воплощении нефтяной компании оказалась примером гринвошинга – попыткой представить лабораторные исследования в качестве перспективного направления инвестирования, а свою деятельность более экологически ответственной, чем она на деле являлась. Фактически данная технология оказалась весьма далекой от коммерческой реализации, но это не значит, что в дальнейшем подобные технологические прорывы не будут возможны и не произведут «зеленый» переворот в энергобалансе стран и регионов. Просто пока об этом говорить рано.
Но вернемся к нашему рациональному технологическому выбору. Лидером в мировом потреблении первичных топливно-энергетических ресурсов в 2050 г. в сценарии РТВ становится природный газ – 24% совокупного потребления. Свой вклад в этом сценарии вносит применение газа в качестве сырья для производства «голубого» водорода – в этом случае получаемый углекислый газ улавливается и подвергается геологическому захоронению в недрах (технология CCS).
В данном сценарии мировая потребность в водороде повышается к 2050 г. до более чем 200 млн т, а использование природного газа для его производства многократно растёт, превышая к концу прогнозного периода 300 млн т н. э. – почти 370 млрд м3, хотя доля природного газа в выработке водорода и снижается в этом сценарии с более чем 90% в настоящее время до 48% в 2050 г.
Рост потребления водорода является характерной чертой сценариев энергоперехода. Замещая ископаемые углеводородные энергоресурсы в промышленности, электроэнергетике и на транспорте, водород позволяет сократить до нуля выбросы СО₂ в данных производственных процессах (от топливных ячеек для транспорта до прямого восстановления железа в промышленности). Однако, являясь вторичным ТЭР, водород и более дорог, по сравнению с замещаемыми первичными ТЭР. Более того, необходимо обеспечить отсутствие выбросов СО₂ при производстве водорода, что сужает «палитру» используемого водорода до «голубого» и «зелёного» (произведенного электролизом воды с использованием возобновляемых источников энергии).
В сценарии РТВ потребление водорода растёт наиболее значимо в промышленности (на неё приходится 41% прироста потребления водорода с 2022 г. по 2050 г. в данном сценарии). В целом потребление водорода достигает в сценарии РТВ более 200 млн т к 2050 г.
Наибольшую роль в мировом потреблении водорода в сценарии РТВ играют США и Канада (33%), Китай (14%) и прочая Азия (21%). На эти три макрорегиона приходится более двух третей потребления водорода в 2050 г.
Региональная динамика потребления природного газа также заметно различается. В сценарии РТВ потребление природного газа наиболее быстро растёт в Китае (+122% с 2022 г. по 2050 г.), Индии (+347%), Субсахарской Африке (+116%) и прочей Азии (+59%). Совокупная доля Азии в потреблении газа растёт с 25% в 2022 г. до 37% в 2050 г. На Ближнем, Среднем Востоке и в Северной Африке потребление газа растёт немного быстрее, чем в мире в целом (+38%), и доля этого региона немного повышается (с 19 до 20%). В ЕС и Великобритании потребление газа в данном сценарии растёт всего на 9%, и доля данного региона снижается с 12 до 10%. При снижении потребления газа на 15%, США и Канада остаются важным центром потребления газа (хотя доля данного региона и снижается с 22 до 14%).
Для России рациональный технологический выбор тоже связан с потреблением газа. Это говорит о том, что упор должен быть сделан на использовании природного газа не только в качестве энергоносителя, но и сырья для производства продукции более высоких переделов. Кроме того, будут развиваться технологии когенерации, в том числа малой и распределенной, что для масштабов нашей страны может представлять перспективное направление технологического развития при рациональном использовании ресурсов.
География диктует рациональный выбор и в других технологиях использования газа, например, газификация удаленных регионов, предполагающая развитие распределенной генерации с использованием контейнерных поставок сжиженного природного газа. Это технология широко используется, в частности, в Китае, но для России она представляет собой весьма перспективное направление технологического развития, как и использование метана на транспорте, в компримированном или сжиженном виде. Малые установки по производству СПГ работают и внедряются во всем мире, особенно в Китае, США и Европе. Для России данные технологические направления использования природного газа можно считать вполне перспективными и рациональными.
Что с выбросами?
Трансформация мировой энергетики позволяет переломить тенденцию роста выбросов СО₂ от использования ТЭР (включая утечки метана при добыче углеводородного сырья). По сравнению с ростом на 25% в сценарии ВКВ, выбросы снижаются с 2022 г. по 2050 г. на 34% в сценарии РТВ и на 74% в сценарии ЧН (рис. 3). В 2050 г. в сценарии РТВ на электроэнергетику приходится 41% выбросов, связанных с потреблением и производством ТЭР, на промышленность – 30%, на транспорт – 18%, а на ЖКХ – 12%.

Трансформация мирового ТЭК по сценарию «чистый ноль» с высокой степенью вероятности позволяет остаться в рамках углеродного бюджета для экономики в целом. Суммарные выбросы от энергетики за 2015–2050 гг. остаются в пределах 800 млрд т СО₂, что при хоть сколько‑нибудь успешном росте поглощающей способности экосистем вполне укладывается в определённый МГЭИК для этого периода углеродный бюджет в 700–800 млрд т СО₂-экв и предотвращает повышение среднемировой температуры более чем на 1,5 °C. Однако данный сценарий оказывается гораздо более капиталоёмким, по сравнению со сценарием РТВ, и, на наш взгляд, чрезвычайно труднореализуемым при отсутствии масштабной финансовой помощи развивающемуся миру. По нашим оценкам, сценарий ЧН в целом выглядит «неподъёмным» для мировой экономики. Масштабы требующихся уже в ближайшее время (и на многие годы вперёд) инвестиций в низкоуглеродные технологии превышают 5–6% мирового ВВП (в полтора раза больше, чем в сценарии РТВ), что авторитетные исследователи энергоперехода находят маловероятным.
Возможным компромиссом может стать энергопереход по сценарию РТВ, в котором суммарные выбросы от использования ТЭР за указанный период превышают 1 трлн т СО₂ и не дают вписаться в определённый МГЭИК углеродный бюджет, позволяющий ограничить повышение среднемировой температуры менее чем 2 °C. Это требует более интенсивного роста поглощающей способности за пределами топливно-энергетического комплекса (для достижения к 2050 г. поглощения примерно на уровне 12 млрд т СО₂ в год).
При этом важную роль может сыграть не только увеличение поглощающей способности экосистем, на что делается ставка в развивающемся мире, и, в частности, в российской стратегии низкоуглеродного развития, но и наращивание систем прямого улавливания СО₂ из воздуха (DACCS) в развитом мире.

Преимуществом DACCS над обычной системой улавливания и захоронения СО₂ (CCS) является не только возможность расположить системы улавливания вблизи имеющихся мест захоронения СО₂, но и то, что при таком подходе снижается потребность развивающихся стран в финансовой помощи для реализации климатических проектов. Развитые страны смогут вносить больший вклад в снижение концентрации углекислого газа в атмосфере, осуществляя масштабные проекты по прямому улавливанию СО₂ из атмосферы прямо на своей территории.
Аналогичным образом могли бы быть масштабированы представляющиеся весьма перспективными проекты по извлечению СО₂ из океанской воды, что позволит повысить поглощающую способность Мирового океана. Созданные опытно-промышленные установки последнего типа (проект EquaticTM 20) предполагают стоимость поглощения 1 т СО₂ менее 100 долл. Учитывая, что на Мировой океан приходится около одной трети естественного поглощения СО₂, развитие данного направления может стать весьма важным и конкурентоспособным компонентом глобальной стратегии декарбонизации.
Что делать России?
Наши расчёты в рамках сценария РТВ показывают, что Россия может добиться даже более амбициозных целей в декарбонизации энергетики, чем обозначено в Стратегии низкоуглеродного развития. При этом декарбонизация по пути, предложенному в данном сценарии, по нашему мнению, оказывается вполне допустимой с точки зрения финансовых ограничений. Более того, непрерывное развитие технологий зачастую превышает ожидания и может позволить даже ускорить темпы декарбонизации российской энергетики или, по крайней мере, сделать её ещё более доступной даже при сохранении более высокой энергоёмкости экономики России, по сравнению с среднемировым показателем энергоэффективности.
Сценарий «Рациональный технологический выбор» может рассматриваться для российской экономики и энергетики по двум направлениям. Во-первых, изменения мирового спроса не могут не сказаться на России как крупнейшем поставщике энергоресурсов. Соответственно, российский ТЭК должен иметь необходимую степень технологической гибкости для быстрой и эффективной адаптации к этим изменениям. Во-вторых, Россия как крупный производитель и потребитель традиционных энергоресурсов должна иметь собственные представления о национальной специфике рационального технологического выбора с учетом географических, климатических и социальных особенностей. Таким образом, сценарий РТВ может давать основания для разработки мер экономической политики в отраслях ТЭК России.
Прирост мирового потребления природного газа на четверть к 2050 г. в сценарии РТВ создает возможность для России монетизировать свои обширные запасы природного газа. Как крупный производитель Россия обладает компетенциями в добыче и создании газотранспортных систем. Однако изменение структуры спроса на природный газ в мире создает новые вызовы.
Смещение спроса в сторону развивающихся стран, которые характеризуются меньшей покупательной способностью, большими расстояниями поставки, а также большей дробностью спроса (за исключением рынков Китая и Индии) создает требования по увеличению гибкости при продажах российского сырья и адаптации к меньшим ценам реализации. Для этого необходимо диверсифицировать и увеличивать структуру добычи природного газа в России, в том числе задействовать в большей мере более дешевые ресурсы. Например, попутный нефтяной газ у части нефтяных компаний имеет меньшую себестоимость. Малые месторождения в регионах с хорошей инфраструктурой могут оказаться более подходящими для некоторых поставок. Еще одним ресурсом может служить высвободившиеся объемы добычи при повышении эффективности использования газа внутри страны. Это же касается и ресурсов, которые ранее направлялись в Европу.
Одним из вариантов повышения конкурентоспособности при поставках на экспорт в развивающиеся страны, особенно в страны Глобального Юга, где газ востребован для производства электроэнергии, а не отопления, может быть комплексное предложение поставки как самого природного газа, так и технологий для его хранения и использования. Это дополнительный аргумент для развития собственных газовых турбин различной мощности.
В самой России остро необходимо массовое внедрение энергоэффективных решений как в части потребления энергоресурсов, так и в части генерации энергии: увеличение доли ТЭЦ и доли газотурбинных и парогазовых энергоблоков, активная модернизация коммунальной энергетики и энергозатратных процессов в ЖКХ и многое другое.
Рациональный технологический выбор российской энергетике необходимо делать в режиме реального времени независимо от требований декарбонизации экономики. Но хорошо, что эти векторы совпадают по направлению, а усилия по развитию технологий приведут к успехам в борьбе с изменением климата.