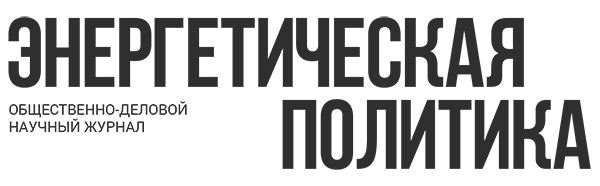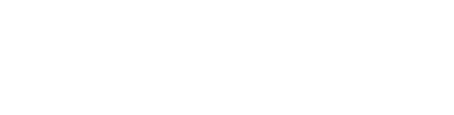Алексей МАСТЕПАНОВ
Главный научный сотрудник Аналитического центра энергетической политики и безопасности ИПНГ РАН, д. э. н., профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, академик РАЕН
E-mail: amastepanov@mail.ru
Андрей СУМИН
Ведущий научный сотрудник Аналитического центра энергетической политики и безопасности
ИПНГ РАН, к. ю. н.
E-mail: 02.slot.cancans@icloud.com
Борис ЧИГАРЕВ
Ведущий инженер по научно-технической информации
ИПНГ РАН, к. ф.-м. н.
E-mail: bchigarev@ipng.ru
Топливно-энергетический сектор Танзании традиционно характеризуется высокой степенью централизации и государственного участия в нём. Преобладание государства в добыче энергоресурсов, производстве, передаче и реализации электроэнергии обусловлено особенностями социально-экономической структуры танзанийского общества и спецификой местных политических элит, сложившихся после обретения страной независимости в 1961 г. Джулиус Ньерере, один из ведущих политических деятелей Африки периода деколонизации, ставший первым президентом независимой Танзании и впоследствии неоднократно занимавший этот пост в течение длительного времени, с момента обретения страной независимости от Великобритании последовательно воплощал в жизнь свою концепцию «уджамаа» (англ. – ujamaa) , по сути представлявшую собой разновидность социалистической идеологии. «Уджамаа» предполагала высокую степень вовлечённости государства в развитие экономики и общества с опорой на внутренние ресурсы и человеческий потенциал. Естественно, что энергетическому сектору в этой концепции отводилось далеко не последнее место. Главенствующая роль государства в энергетике и освоении природных богатств рассматривалась в «уджаме» в качестве залога успешного развития народного хозяйства. Согласно «уджаме», государство в силу своего патерналистского статуса не только вправе, но и обязано при необходимости вмешиваться в экономику для реализации возложенной на него ответственности перед обществом. Отголоски данной концепции ощущаются и по сей день в происходящих в Танзании политических и экономических процессах. Некоторые современные исследователи указывают, что «уджамаа» стала своего рода естественной реакцией на колониальное прошлое едва обретшей независимость Танзании. Отмечается также, что Танзания является одной из стран, где наследие периода колониализма сказывалось ещё долго и особенно сильно даже после провозглашения независимости [1, с. 14]. Бывшая метрополия – Великобритания – и другие западные государства умело пользовались сохранявшейся финансовой, технологической и внешнеторговой зависимостью Танзании от своих рынков.

Источник: Photocreo / depositphotos.com
В основе энергобаланса страны традиционно лежит триада из природного газа (64,04%), гидроэнергии (30,69%) и ВИЭ [2, с. 361]. Центральную роль в национальной энергетике играет государственный электроэнергетический концерн TANESCO, чей удельный вес в производстве электроэнергии составляет 84% [2, с. 357]. Такая структура энергобаланса начала формироваться ещё в последние десятилетия колониальной эпохи. В частности, британская колониальная администрация санкционировала начало изыскательских работ на перспективных нефте- и газоносных участках на островах Занзибар, Мафия и Пемба. Компании Shell и British Petroleum осуществляли исследовательские работы на указанных островах в 1952–1965 гг. Колониальные власти также развивали гидроэнергетику. В 1966 г. правительство уже независимой Танзании заключило с итальянским энергетическим концерном инвестиционное соглашение об образовании совместного предприятия по строительству НПЗ в стране [3]. Во всех случаях речь шла о привлечении западных технологий, профессиональных кадров и финансирования.
Западное влияние на энергетическую политику Танзании видоизменилось со второй половины 1970‑х гг., когда власти страны решили сделать ставку на широкое использование ВИЭ. В этот период в Танзании начали появляться западные неправительственные организации (НПО), провозглашавшие своей целью содействие властям страны в развитии возобновляемой энергетики. При этом НПО опирались на открытую поддержку правительств представляемых ими государств. Кульминацией этого процесса стало учреждение в середине 1980‑х гг. в структуре Министерства водных, энергетических и минеральных ресурсов Танзании нового подразделения – Департамента возобновляемой энергетики. Указанное подразделение было создано при прямой организационной и финансовой поддержке Правительства ФРГ и, несмотря на название, сосредоточилось на развитии производства в стране древесного угля. Акцент на производстве именно древесного угля был сделан не случайно: древесный уголь традиционно используется городским населением в Восточной Африке в качестве энергоносителя, в то время как в сельских регионах предпочитают использовать дрова [4].

Источник: thanawang3rd / depositphotos.com
С подачи западных государств в Танзании была разработана и в 1992 г. обнародована новая энергетическая политика, содержавшая два кардинальных изменения в развитии национальной энергетики. Первое изменение было направлено на укрепление энергетической безопасности путём развития всех разновидностей возобновляемой энергетики, а не только гидроэнергетики. Упор здесь делался на ветроэнергетику, хотя предполагалось также расширение использования ископаемого энергоносителя – природного газа. Использование внутренних резервов стало приоритетом для политических элит страны в развитии ТЭК на последующие десятилетия. Второе изменение в энергетической политике было направлено на реформирование национального энергетического сектора путём разделения электроэнергетического монополиста TANESCO на формально независимые друг от друга узкоспециализированные компании и на допуск частных фирм для работы на внутреннем энергетическом рынке. Характерно, что указанный пакет реформ представлял собой стандартный набор требований, предъявлявшихся в тот период Всемирным банком ко всем развивающимся странам, искавшим средства для модернизации национальной энергетики. Таким образом, фиксация на официальном уровне в качестве новой парадигмы развития ТЭК двух новых постулатов – укрепления энергетической безопасности и либерализации внутреннего энергетического рынка – явилась основой нового этапа функционирования танзанийского ТЭК под контролем западных структур [5, с. 4].
Тем не менее, достигнутый компромисс оказался хрупким. Первоначально заявленное намерение стимулировать использование природного газа и энергии ветра нашло практическое воплощение лишь наполовину: интерес к ветроэнергетике иссяк, зато власти взялись за поиск и разработку газовых месторождений. Возросшее внимание к природному газу не стало случайностью. Первое крупное месторождение природного газа на территории Танзании было открыто ещё в 1974 г. [6, с. 1]. Годом ранее случился нефтяной кризис, пошатнувший мировую экономику и продемонстрировавший правящим элитам многих государств уязвимость их энергетической безопасности, и Танзания не стала исключением. Открытие в 1982 г. второго обширного газового месторождения – в бухте Мнази (область Мтвара на юго-востоке страны) – показало существенный ресурсный потенциал для развития газовой генерации в Танзании [7, с. 3]. Впрочем, в то время правительственные эксперты сочли разработку указанных месторождений природного газа экономически нецелесообразной ввиду изначально предполагавшихся незначительными их запасов. К тому же Танзания той поры страдала от политической нестабильности ввиду правительственной чехарды: в стране отсутствовали политическая воля и финансовые ресурсы для масштабных работ по обследованию и разработке перспективных газоносных участков. Идея разработки месторождений природного газа с целью производства электроэнергии для нужд внутреннего рынка обрела новый импульс лишь в 1993 г., когда соответствующий план (проект «Сонго-Сонго») был обнародован одной частной электроэнергетической компанией, за которой стояли западные предпринимательские круги. Власти рассматривали газодобычу в качестве инструмента для стимулирования экономического развития бедных сельских регионов [7, с. 3]. Проект «Сонго-Сонго» предусматривал добычу природного газа на побережье Индийского океана и его транспортировку по специально построенному газопроводу в регион Дар-эс-Салама для генерации электроэнергии. Реализовывать проект предполагалось силами совместного предприятия, образованного танзанийским электроэнергетическим монополистом TANESCO, танзанийской же национальной нефтяной компанией TPDC (англ. – Tanzania Petroleum Development Corporation) и рядом западных компаний, благодаря участию которых проекту было гарантировано достаточное финансирование [8]. Совместное предприятие стало результатом компромисса между танзанийским правительством (которое первоначально планировало сделать проект государственным) и западными инвесторами во главе с Всемирным банком, которые, напротив, намеревались сохранить проект «Сонго-Сонго» в частных руках. Указанные разногласия привели к существенному затягиванию проекта. Ещё более мощный удар по проекту «Сонго-Сонго» был нанесён вскрывшимся в танзанийском электроэнергетическом секторе коррупционным скандалом. В 1995 г. частная компания-производитель электроэнергии IPTL (англ. – Independent Power Tanzania Ltd.), учреждённая одним крупным танзанийским предпринимателем и малайзийской фирмой Mechmar Corporation, заключила контракт с государственными структурами на срочную поставку электроэнергии, производимой на принадлежащей ей дизельной электростанции. Поспешность при заключении договора поставки электроэнергии для государственных нужд, да ещё без проведения обязательного в подобных случаях тендера, формально объяснялась наступившей в стране продолжительной засухой, отчего резко снизилась выработка электричества на местных ГЭС. Вскоре, однако, выяснилось, что участвовавший в проекте танзанийский предприниматель обеспечил оперативное заключение упомянутого договора поставки путём подкупа целого ряда чиновников и политиков. В 1997 г. было объявлено, что компания IPTL изъявила желание заняться ещё и реализацией проекта «Сонго-Сонго». В ответ Всемирный банк объявил о приостановке финансирования проекта «Сонго-Сонго», обвинив танзанийские власти в нарушении уже достигнутых договорённостей. Некоторое время спустя и разразился скандал вокруг фирмы IPTL. Дополнительно выяснилось, что производимое фирмой электричество поставлялось государству по тарифам, существенно превышавшим средние по Восточной Африке расценки. Скандал спровоцировал громкие судебные процессы и отставки, а также породил скептическое отношение к другим частным компаниям-производителям электроэнергии. В итоге консорциум западных участников во главе с Всемирным банком сумел обеспечить себе право на проект «Сонго-Сонго», практическая реализация которого началась лишь в 2004 г. [1, с. 4] Взаимодействие танзанийских правительственных чиновников и представителей западных участников в рамках проекта «Сонго-Сонго» проходило непросто и сопровождалось разногласиями. В этот период западные государства усилили нажим на Танзанию, требуя либерализации местного энергетического сектора, включая пересмотр правового статуса концерна TANESCO. Среди правивших тогда Танзанией политиков и чиновников также наблюдался раздрай. Председатель правящей партии, третий президент страны Бенджамин Мкапа (Benjamin William Mkapa) публично неоднократно подчёркивал свою приверженность реформированию национальной энергетики, чего от него требовали страны Запада. Но некоторые соратники Б. Мкапы и руководители государственных компаний относились к либерализации настороженно: сказывалось в том числе наследие социалистической ориентации страны в предыдущие десятилетия. Противоречия в правящем лагере привели к сохранению статус-кво в энергетике страны, хотя приватизировать TANESCO было решено ещё в 1997 г. В 2002 г. президент Б. Мкапа, выступая с речью перед западными представителями, в очередной раз подчеркнул свою приверженность реформированию национального энергетического сектора, но в то же время открыто признал, что в правящей партии и в правительстве страны существует сильное сопротивление либерализации: «Мы продолжаем движение в направлении приватизации остающихся в государственной собственности предприятий промышленности и коммунального хозяйства. Но процесс идёт сложно и медленно…» [5, с. 4]. Либерализация фактически началась лишь в 2002 г., когда одна южноафриканская компания выиграла тендер на управление концерном TANESCO. В 2004 г. на танзанийский электроэнергетический рынок вышла ещё одна компания с зарубежным участием: небольшая фирма Artumas, получившая финансирование от голландского инвестиционного банка FMO, планировала построить газовую электростанцию в регионе Мтвара на юго-востоке Танзании. Министерство энергетики Танзании и монополист TANESCO пытались препятствовать реализации проекта, но их усилия успехом не увенчались, поскольку проект получил поддержку президента страны Б. Мкапы, который как нельзя кстати оказался родом из Мтвары. Что касается самого электроэнергетического монополиста TANESCO, то планам по его приватизации и разделению на специализированные компании так и не суждено было материализоваться. В 2005 г. правительство вычеркнуло TANESCO из списка подлежащих приватизации государственных компаний. Принимая во внимание набиравшую в тот период кампанию по приватизации государственных предприятий, отказ от плана приватизировать электроэнергетическую монополию стоит рассматривать как нехарактерное для реалий того времени явление. Судя по всему, у TANESCO хватило влияния на успешную лоббистскую деятельность в высших эшелонах власти. К тому же правящая партия также предпочла оставить концерн в государственной собственности, явно руководствуясь соображениями национальной энергетической безопасности. Поскольку в тот момент TANESCO находилась в плачевном финансовом положении, правительство даже изыскало средства для срочного оздоровления компании и частичной модернизации её инфраструктуры. Впрочем, формально правительство Танзании продолжило придерживаться курса на реформирование (включая приватизацию) энергетического сектора, что было закреплено в 2006 г. в проекте закона об электроэнергии. Между тем в период 2003–2006 гг. в Танзании свирепствовала засуха, в результате которой резко снизилась выработка энергии на местных ГЭС. В попытке исправить ситуацию правительство срочно изыскало деньги на строительство нескольких газовых электростанций. Однако выделенных средств оказалось недостаточно, и в игру снова вступили западные организации, прежде всего упомянутый нидерландский банк FMO, которые и предоставили недостающее финансирование [5, с. 4].
Период 2008–2016 гг. можно условно выделить как отмеченный расхождениями во взглядах ведущих танзанийских политиков на перспективы развития энергетического сектора страны. Расхождения затрагивали главным образом крупные проекты в сфере возобновляемой энергетики (кроме гидроэнергетики, целесообразность дальнейшего развития которой никем не оспаривалась). Тем самым внимание влиятельных политиков и функционеров сместилось с газовой генерации на производство электроэнергии из ВИЭ. Такого рода внимание оказалось неслучайным, ибо Танзания как часть восточноафриканского региона располагает двумя важными предпосылками для развития «зеленой» энергетики (в особенности солнечной и ветровой): благоприятными природно-климатическими условиями и постоянно увеличивающимся спросом на электроэнергию со стороны растущего населения и хозяйствующих субъектов [9, с. 59]. В отраслевое законодательство были внесены изменения, облегчающие децентрализацию и разделение крупных энергетических компаний, а также облегчение доступа частного капитала к работе в энергетическом секторе. Перечисленные изменения были направлены на стимулирование участия частных инвесторов, в особенности зарубежных, в развитии ветроэнергетики. Несмотря на позитивную реакцию за рубежом, ни один ветроэнергетический проект в стране не был реализован. Тому были две причины. Во-первых, после очередного коррупционного скандала в энергетическом секторе с участием частных инвесторов танзанийское правительство опять заняло невнятную позицию в отношении негосударственного капитала в национальной энергетике. Во-вторых, в правительстве снова ожил интерес к развитию газовой генерации, поскольку были открыты новые крупные месторождения природного газа. Период 2008–2016 гг. следует считать качественно новым в развитии энергетического сектора Танзании ещё и потому, что на него впервые обратили внимание инвесторы из Японии и Китая. В частности, в 2012 г. китайские инвесторы приняли участие в реализации проекта сооружения газопровода от месторождения в бухте Мнази до Дар-эс-Салама протяжённостью в 542 км [10]. Не знавшие до этого конкуренции с Дальнего Востока европейские инвесторы продолжали действовать в Танзании в прежней, постколониальной парадигме, едва ли не ультимативно требуя теперь от местных властей приоритетного внимания к развитию «зеленой» энергетики. Между тем азиатские деловые круги руководствовались исключительно финансовой успешностью энергетических проектов и готовы были вкладывать в них солидные деньги. Осознав новые реалии, танзанийские правящие круги решили увеличить роль государства в стимулировании социально-экономического развития – ещё недавно такой подход был бы рискованным ввиду отсутствия альтернатив западному капиталу, диктовавшему своё видение перспектив энергетики страны. Усилению роли государства в энергетическом секторе поспособствовала и засуха 2010–2013 гг. Производство электроэнергии на ГЭС снизилось, и правительство приняло решение профинансировать за счёт государственного бюджета строительство газопровода и нескольких газовых электростанций, дабы оперативно заместить выпавшие генерирующие мощности в гидроэнергетике. Тем не менее западное влияние на принятие Правительством Танзании решений в области развития национальной энергетики по-прежнему оставалось существенным. Правительство решило уделять внимание не только газовой, но и другим разновидностям генерации электроэнергии. Очередной план развития энергетического сектора Танзании закреплял провозглашенный Всемирным банком приоритет – производство электроэнергии при минимально возможной эмиссии парниковых газов. То есть фактически речь шла опять‑таки о развитии масштабных проектов «зелёной» энергетики в качестве выставляемого Западом условия получения крупных зарубежных капиталовложений [5, с. 5].
Наступивший 2008 г. ознаменовался усилением внимания правительства к развитию «зелёной» энергетики, не связанной с гидроэнергетикой. Был пересмотрен закон об электроэнергии, его новая редакция облегчала развитие возобновляемой энергетики в масштабах всей страны, причём речь шла уже не только о крупных проектах. Причин для принятия новой редакции закона об электроэнергии было две. Первая заключалась в создании рамочных условий для электрификации сельских регионов страны, в которых совокупно проживает 60% населения страны [4, с. 3]. Министр энергетики наделялся полномочиями по разработке программы электрификации в части усиления использования ВИЭ и строительства децентрализованных региональных систем электроснабжения. Второй причиной являлось давно декларируемое намерение правительства реформировать национальный энергетический сектор сообразно духу времени, разделив электроэнергетического монополиста TANESCO на специализированные компании и тем самым привнеся в энергетику конкурентное начало. Инициатива по пересмотру закона об электроэнергии исходила не только от правительства, но и от западных структур. Именно по требованию последних отдельные положения новой редакции были сформулированы таким образом, чтобы появилась правовая определённость в пользу частных (прежде всего зарубежных) инвесторов, желавших принять участие в программе электрификации.
По инициативе Шведского управления международного сотрудничества в области развития (англ. сокр. – SIDA), в течение длительного времени оказывавшего разного рода поддержку энергетическому сектору Танзании, в стране было учреждено Агентство по сельской энергетике (англ. – Rural Energy Agency, сокр. – REA), задачей которого стала координация мер по электрификации сельских регионов. Стоит отметить, что развитие возобновляемой энергетики вообще является одним из традиционных приоритетов SIDA. За расширение производства «зеленой» электроэнергии в Танзании под начинавшей всё активнее пропагандироваться парадигмой энергетического перехода [9, с. 59] выступил и Всемирный банк, эксперты которого разработали в 2007 г. специальную программу для развивающихся стран – «Проект по развитию энергетики и расширению доступа к энергии» (англ. – Energy Development and Access Expansion Project). Указанный проект был призван стимулировать развитие возобновляемой энергетики на условиях свободного рынка. Правительство Танзании присоединилось к проекту. С целью создания конкурентной среды в национальной энергетике и во исполнение задачи по электрификации сельских регионов, правительство выдвинуло инициативу учредить сеть небольших компаний-поставщиков электроэнергии, генерирующие мощности каждой из которых не превышали бы 10 МВт. Западные организации-доноры одобрили инициативу в 2008 г.
В том же году в учрежденном при правительстве Танзанийском инвестиционном центре (англ. – Tanzanian Investment Centre, сокр. – TIC) был официально зарегистрирован Wind East Africa – первый из трёх крупных проектов в области ветроэнергетики в Танзании середины первого десятилетия XXI в. Реализации проекта предшествовали масштабные проектные работы по замеру силы ветров и оценке целесообразности размещения ветрогенераторов в разных регионах страны. Проектные работы проводились при техническом и финансовом содействии Danida – Датского агентства международного развития. Проект Wind East Africa реализовывался на базе фирмы Six Telecom – танзанийской телекоммуникационной компании, принадлежащей представителям местной бизнес-элиты, которые, в свою очередь, располагали связями в правительственных верхах. В частности, одним из собственников Six Telecom являлся тогдашний директор государственного Инвестиционного банка Танзании (англ. – Tanzania Investment Bank), ещё один собственник был связан с вице-президентом страны Билалом. Первоначально Six Telecom развивала проект в кооперации с британской компанией Aldwych, а в последующем – с организацией IFC, аффилированной с Всемирным банком. Проект был поддержан Правительством Великобритании. Стоит отметить, что Wind East Africa представлял собой типичный для танзанийских реалий результат сплетения государственных и частных интересов с отчасти непрозрачным составом бенефициаров и высоким уровнем участия представителей западных государств. Этот и последующие сходные проекты затевались и реализовывались крупными местными предпринимателями, имевшими связи в высших эшелонах власти, при участии инвесторов и организаций из стран Запада. Так, ещё один из масштабных ветроэнергетических проектов – Power Pool East Africa – продвигался группой учредителей – якобы частных лиц, некоторые из которых являлись депутатами парламента, где представляли правившую в стране партию. Практическая реализация проекта Power Pool East Africa проводилась при участии двух государственных организаций – концерна TANESCO и Национальной корпорацией развития (англ. – National Development Corporation, сокр. – NDC). При этом в качестве организационно-правовой формы для проекта было выбрано смешанное частно-государственное партнёрство, получившее наименование Geowind и учреждённое с целью получить финансирование от китайского банка Exim Bank. Участие TANESCO и парламентариев гарантировало проекту Power Pool East Africa под формальным руководством Geowind самую быструю реализацию по сравнению с сопоставимыми проектами на ВИЭ такого масштаба: в рекордно короткие сроки (в 2013 г.) компания Geowind получила официальное разрешение на поставку производимой ею электроэнергии.
Прямо противоположно сложилась судьба другого ветроэнергетического проекта – SinoTan. Инициаторы проекта практически не имели связей в управленческой и политической элитах Танзании, что предсказуемо гарантировало проекту массу трудностей при реализации. В целом указанные ветроэнергетические проекты хоть и были реализованы на практике, но их вклад в электрификацию сельских регионов оказался незначительным. Причиной тому являлся избирательный подход властей к применению норм закона об электроэнергии и нежелание усиливать роль частного сектора в расширении энергетической инфраструктуры. Правивший Танзанией в 2005–2015 гг. четвертый президент Джакайя Киквете (Jakaya Kikwete) сделал одним из приоритетов своей политики в энергетическом секторе обуздание погони за сверхприбылями и потому в целом сдержанно относился к частным инвестициям в национальную энергетическую инфраструктуру. На руку Д. Киквете сыграл разразившийся в 2008 г. коррупционный скандал, когда достоянием гласности стали злоупотребления при проведении тендера на строительство газовой электростанции мощностью в 120 МВт. Победителем тендера была объявлена фирма Richmond Development Company – существовавшая лишь номинально, без какого‑либо опыта в производстве электроэнергии. В результате проведённого парламентского расследования выяснилось, что указанная фирма выиграла тендер по закулисной протекции премьер-министра Э. Ловассы. Из-за разразившегося скандала в отставку вынуждены были уйти и премьер-министр, и министр энергетики страны.
Сложившаяся ситуация сыграла на руку президенту Д. Киквете и его политическим союзникам: был усилен контроль за действовавшими на энергетическом рынке страны компаниями и практикуемыми ими методами по максимизации прибыли. Президент Д. Киквете заявил, что в целом не возражает против частного капитала в энергетическом секторе, но желает более чёткого разделения между деньгами и политикой. Д. Киквете энергично поддерживал деятельность учреждённого во исполнение закона об электроэнергии в редакции 2008 г. Агентства по надзору в сфере энергетических и водных ресурсов (англ. – Energy and Water Regulatory Authority, сокр. – EWURA). Агентство было наделено полномочиями защищать интересы потребителей энергии, в том числе посредством регулирования тарифов и контроля за деятельностью компаний – участников энергетического рынка. Укрепляя положение EWURA, президент Д. Киквете через данное агентство осуществлял реализацию своей политики по обузданию практики извлечения сверхприбылей энергетическими компаниями. Тем не менее описанные процессы наложили негативный отпечаток на общее восприятие вхождения частного капитала в энергетический сектор страны. Ярким примером тому служит неудача в реализации проекта частной зарубежной фирмы Artumas по строительству газовой электростанции в провинции Мтвара. В 2008 г. фирма Artumas запросила у EWURA официального утверждения разработанных ею тарифов на электроэнергию, которую планировалось поставлять потребителям с возводимой газовой электростанции. Тарифы утверждены не были, что привело к финансовым затруднениям у Artumas и её уходу с рынка. Построенная Artumas электростанция досталась в итоге электроэнергетическому монополисту TANESCO. Строительство крупных ветропарков в рассматриваемый период также сошло на нет: формально правительство не чинило особых препятствий инициаторам ветроэнергетических проектов, но в то же время уклонялось от оказания им действенной поддержки. [5, с. 6].
Новый сдвиг в энергетической политике Танзании пришёлся на 2010‑е гг. Не отказываясь от декларируемых реформ энергетического сектора, правительство в то же время начало подспудно продвигать посыл об усилении роли государства в энергетике. Одновременно с официальных трибун вновь зазвучали инициативы по расширению использования природного газа. В рамках этих инициатив в 2012 г. был подписан контракт на строительство крупного газопровода из Мтвары в Дар-эс-Салам. Эти новые веяния были продиктованы несколькими причинами. Во-первых, в 2010 г. на континентальном шельфе Танзании были открыты первые по-настоящему крупные месторождения природного газа. Последующие годы ознаменовались новыми значительными открытиями газовых месторождений: по состоянию на 2022 г. оценочные запасы природного газа на танзанийском шельфе составляли 57,54 трлн куб. футов [11]. В том же 2010 г. страну поразила очередная засуха, продолжавшаяся и год спустя. В результате выработка электроэнергии танзанийскими ГЭС снизилась почти вдвое. Во-вторых, у западных структур, до той поры безраздельно занимавших монопольную позицию на рынке капитала и без согласия которых не была возможна реализация ни одного более-менее крупного энергетического проекта в Восточной Африке, появился конкурент – Китай. Китайские инвесторы, в отличии от западных, в своей деловой практике руководствовались лишь критериями экономической целесообразности и финансовой окупаемости энергетических проектов. Именно китайские инвесторы согласились предоставить финансирование на строительство упомянутого газопровода после того, как его отказался финансировать Всемирный банк. Таким образом, впервые за время независимости Танзании западные финансовые структуры оказались не у дел при реализации масштабного энергетического проекта. В-третьих, традиционно бытующее в среде правящих элит Танзании стремление использовать природные ресурсы страны для ускорения её социально-экономического развития получили новый импульс опять‑таки в 2010‑е гг. Новым веянием здесь стали планы увеличить производство электроэнергии для стимулирования развития страны, тогда как прежде в качестве единственного источника преобразований рассматривались прибыли горнодобывающей промышленности. Проект газопровода в Дар-эс-Салам не являлся составной частью планов по электрификации страны. Его строительство было инициировано совместно Министерством энергетики и природных ресурсов и танзанийской государственной нефтяной компанией TPDC как способ укрепления национальной энергетической безопасности, уровень которой снизился из-за падения объёмов генерации на ГЭС вследствие продолжительной засухи. Правительство Танзании одобрило проект газопровода, тем самым сделав добычу и использование природного газа приоритетом текущей энергетической политики.
Период 2010‑х гг. интересен тем, что с открытием крупных газовых месторождений в стране и ростом влияния в Африке Китая правящие круги Танзании получили пространство для маневрирования в политике и экономике. У танзанийского правительства появились возможности и стимулы для долгосрочного планирования социально-экономического развития страны на основе усиления роли государства, причём без необходимости оглядываться на Запад, как неизменно случалось прежде. Данный подход даже получил закрепление на официальном уровне в программных документах правительства (2015 г.) и Министерства финансов и планирования Танзании (2016 г.) в виде провозглашенного курса на снижение зависимости страны от различного рода помощи со стороны международных организаций [1, с. 5]. Проект газопровода из Мтвары в Дар-эс-Салам рассматривался правительством как фактор укрепления национальной энергетической безопасности и как возможность для осуществления индустриализации страны на основе гарантированной и дешёвой энергии внутреннего производства. Власти рассматривали индустриализацию как насущную необходимость: рассматриваемый период характеризовался стремительным ростом урбанизации в стране – совокупная численность населения городов Мвандза, Дар-эс-Салам, Аруша, Додома и Мбейя подскочила с 8,4 млн в 2002 г. до 22,8 млн в 2021 г. [12, с. 3, 16]. Власти поощряли урбанизацию, рассматривая увеличение городского населения как предпосылку экономического роста и залог трансформации и модернизации общества [12, с. 19]. Это диктовало необходимость ускоренного создания большого количества рабочих мест, соответствующей инфраструктуры и систем жизнеобеспечения за короткое время, что сделать возможно было только централизованно, т. е. при непосредственном участии государства [13]. По этой причине газопровод рассматривался как стратегический актив, которому надлежало находиться исключительно в государственной собственности. Было решено юридически зафиксировать государственный контроль над газопроводом посредством оформления его в собственность государственной нефтяной компании TPDC [5, с. 6].
Тем не менее, развитие энергетического сектора Танзании в 2010‑е гг. характеризовалось и колебанием властей относительно инструментов достижения поставленных целей. Невзирая на провозглашенный приоритет газовой генерации, правительство не могло не учитывать и мнений влиятельного частного сектора, который продолжал продвигать основанные на использовании других энергоносителей проекты – такие, как ветроэнергетические. С одной стороны, власти энергично взялись за развитие газодобычи и строительство газоперерабатывающей инфраструктуры [14]. Так, газопровод из Мтвары в Дар-эс-Салам был построен в 2013–2015 гг., а уже в 2015–2016 гг. вступили в строй две крупных газовых электростанции – Kinyerezi‑1 и Kinyerezi‑2. Обе электростанции были построены по заказу концерна TANESCO на заёмные средства. Характерно, что проект Kinyerezi‑2 был профинансирован японским Банком международного сотрудничества (англ. – Bank for International Cooperation). Таким образом, середина 2010‑х гг. ознаменовалась выходом на энергетический рынок Танзании ещё одного влиятельного зарубежного игрока – Японии. Появление в Танзании китайских и японских инвесторов, равно как и сохранение высокого интереса к местному ТЭК со стороны западных компаний и международных организаций соответствующего профиля, объяснялись как раз упомянутым выше открытием в танзанийском секторе шельфа Индийского океана крупных месторождений природного газа в период 2010–2015 гг. [1, с. 2]. С другой стороны, параллельно строительству газопровода власти продолжали декларировать намерение развивать конкуренцию в национальной энергетике. В частности, в 2014 г. правительство обнародовало новый программный документ – «Дорожную карту-стратегию реформирования отрасли электроснабжения на период 2014–2025 гг.» (англ. – Supply Industry Reform Strategy and Roadmap 2014–2025). Изданием этого документа власти стремились успокоить участников энергетического рынка и донести до них следующую мысль: разработка газовых месторождений и строительство инфраструктуры объективно требуют повышения роли государства в энергетической политике, но без ущемления интересов инвесторов, реализующих прочие проекты в энергетике. Основной целью правительства являлось стимулирование социально-экономического развития в стране, и частный сектор рассматривался властями как один из благоприятствующих росту экономики факторов. В дорожной карте правительство в очередной раз подтверждало намерение разделить электроэнергетическую монополию TANESCO на профильные компании и шире открыть энергетический сектор для сторонних производителей электроэнергии. По замыслу инициаторов этого программного документа, к 2025 г. в Танзании должен был сформироваться полностью конкурентный рынок электроэнергии. Дорожной картой был предусмотрен резкий рост производства электроэнергии в стране: с 1500 МВт на момент издания документа в 2014 г. до 10 тыс. МВт в 2025 г. В рамках стратегии по укреплению энергетической безопасности предполагалась диверсификация национального энергобаланса за счёт реализации новых крупных проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики. Необходимо отметить, что при президентстве Д. Киквете Танзания начала позиционировать себя в качестве сторонницы мер по смягчению последствий изменения климата. Практическим осуществлением реформы национальной отрасли электроснабжения руководил министр энергетики Соспетер Мухонго, занимавший данный пост дважды – в 2012–2015 и в 2016–2017 гг. Конечной целью реформы С. Мухонго видел формирование в стране функционирующего на конкурентных началах единого рынка электроэнергии. По замыслу министра, гибкий и конкурентный электроэнергетический рынок был бы способен изжить традиционные для танзанийской энергетики коррупцию и безудержную погоню за прибылью в ущерб развитию отрасли. Для ускорения реформы рынка электроэнергии по инициативе С. Мухонго в конце 2016 г. была издана директива об электроэнергии – в части реорганизации рынка электроэнергии и стимулировании конкуренции на нём (англ. – Electricity (Market Re-Organisation and Promotion of Competition Regulation). Политика Д. Мухонго пользовалась поддержкой Всемирного банка, который рассматривал издание директивы и упомянутой выше дорожной карты в качестве закономерного результата проводившегося с его же подачи с 2013 г. реформирования газовой и электроэнергетической отраслей Танзании. Декларируемая властями через обнародование указанных программных документов приверженность реформированию энергетического сектора привела к смещению фокуса внимания с прежних масштабных ветроэнергетических проектов, лоббировавшихся заинтересованными группами. В частности, изначально успешно и быстро стартовавший проект Geowind оказался вдруг заморожен, поскольку правительство отозвало свою гарантию для кредита китайского банка Exim Bank в 2016 г. Правительство объявило, что отныне все подобные проекты будут реализовываться через открытые тендеры. В том же 2016 г. власти Танзании обновили перечень критериев, применяемых для оценки целесообразности реализации энергетических проектов. В перечень был включен критерий экологичности, понимаемый в том числе как уровень выброса углекислоты в атмосферу. До 2016 г. основными критериями оценки энергетических проектов были сметная стоимость, надёжность и доступность производимой в рамках проекта энергии. В тот период казалось, что наблюдавшийся в мире приоритетный подход к экологичности в энергетическом секторе укоренится и в Танзании, тем более, что его учёта при реализации новых проектов требовали западные финансовые круги и международные организации. К концу 2016 г. в стране на средства западных инвесторов строилось несколько крупных ветровых электростанций, спроектированных также западными специалистами. Впрочем, нельзя утверждать, будто энергетическая политика Танзании в указанный период проводилась исключительно с учётом пожеланий западных спонсоров и финансовых структур. Тогдашний министр энергетики и минеральных ресурсов Д. Мухонго приветствовал и расширение угольной генерации. Такой подход свидетельствует скорее о желании властей диверсифицировать энергетический баланс с целью укрепления энергетической безопасности страны. В целом по состоянию на начало 2017 г. энергетическая политика Танзании была направлена на реализацию крупных проектов с использованием ВИЭ (исключая гидроэнергетику) на базе частного капитала. Несмотря на предпринятые усилия властей и на позитивное отношение международных организаций, обеспечивавших благоприятный информационный фон, масштаб ввода в эксплуатацию генерирующих мощностей на ВИЭ оказался существенно ниже ожиданий [5, с. 7].
Тем временем, танзанийский политический ландшафт претерпел очередные серьёзные изменения, что не могло не сказаться и на энергетической политике страны. События начали развиваться по непредвиденной траектории. Пришедший к власти в 2015 г. пятый президент Джон Помбе Джозеф Магуфули (John Pombe Joseph Magufuli) провозгласил курс на ускоренную индустриализацию страны . Президент и его правительство объявили о намерении стимулировать развитие промышленности и сельского хозяйства. А это, в свою очередь, подразумевало производство дешевой и доступной энергии. Формально не провозглашая отхода от энергетической политики предшественников, новое правительство сделало ставку на развитие гидроэнергетики. Президент Д. Магуфули назначил на ключевые посты в промышленном и энергетическом секторах своих единомышленников, разделявших его видение ускорения экономического развития посредством усиления роли государства в экономике. В русле этой политики правительство в 2017 г. инициировало крупномасштабный гидроэнергетический проект, названный в честь первого президента Танзании – Julius Nyerere Hydropower Project (сокр. – JNHPP), включавший водохранилище и ГЭС. Проектная мощность ГЭС должна была составить 2100 МВт, что одномоментно более чем в два раза увеличило бы производство электроэнергии в стране. Реализация грандиозного проекта должна была занять десятилетия. Анонсируя проект, власти ссылались на череду неполадок в системе электроснабжения по всей стране в конце 2016 – начале 2017 гг. По замыслу правительства, проекту суждено было находиться в собственности государства. Обнародованию плана по реализации проекта JNHPP предшествовало освобождение от должности министра энергетики и минеральных ресурсов Танзании Д. Мухонго, выступавшего за диверсификацию национального энергетического баланса и против гипертрофированного развития гидроэнергетики. Новым министром энергетики и минеральных ресурсов стал М. Калемани – сподвижник президента Д. Магуфули, во многом разделявший социалистические методы стимулирования экономического развития. Изменения в энергетической политике нового правительства встретили резко негативную реакцию за рубежом, из-за чего танзанийские власти не сумели привлечь иностранное финансирование для реализации проекта JNHPP. Изначально планировалось финансировать проект на заёмные средства из-за рубежа. Попытки получить займы во Всемирном банке и Африканском банке развития окончились неудачей. Свой отказ банки мотивировали экологической нецелесообразностью проекта (согласно проекту, в зону затопления попадал заповедник дикой природы Селоус). Оставшись без западного финансирования проекта JNHPP, президент Д. Магуфули обратился за поддержкой к Китаю. Попытка успехом не увенчалась, ибо выдвинутые китайцами условия не устроили танзанийское правительство. В итоге было принято решение финансировать строительство за счёт внутренних заимствований и бюджетных вливаний. Часть финансирования обязались предоставить египетские строительные компании, выбранные правительством для технической реализации проекта. Одновременно усилилось давление на оппонентов энергетической политики Д. Магуфули внутри страны. В частности, выступавшим против проекта JNHPP депутатам парламента Танзании Д. Магуфули прямо угрожал тюремным заключением [5, с. 8].
Стоит отметить, что смещение правительственного приоритета в сторону гидроэнергетики не означало отказа от проектов с использованием прочих ВИЭ. В частности, в конце 2018 г. было объявлено о планируемом проведении тендеров на реализацию ряда проектов в области солнечной и ветровой генерации. Рассматривалась и возможность строительства угольных электростанций. Новость о тендерах вызвала удивление в экспертном сообществе – принимая во внимание, что реализовывать эти проекты предлагалось с привлечением частного финансирования, что противоречило линии президента Д. Магуфули на приоритетность государственного участия в энергетике. Эксперты полагали, что рассмотрение перечисленных проектов на официальном уровне стало своего рода уступкой властей в сторону государств Запада, которые продолжали оказывать закулисное давление на политическую верхушку Танзании с целью гарантировать себе дальнейшее участие в энергетическом секторе восточноафриканской страны [5, с. 8]. Впрочем, на тот момент планы по дальнейшему строительству солнечных и ветровых электростанций так и остались планами: тендеры не состоялись, а поступившие коммерческие предложения потенциальных участников застряли на стадии рассмотрения в правительственных кабинетах [5, с. 7].
Начало рассматриваемого периода ознаменовалось новым этапом противостояния Правительства Танзании с международными финансовыми организациями (в которых преобладали представители государств Запада) и по другому вопросу. 1 января 2017 г. от должности был освобождён директор электроэнергетической монополии TANESCO. Причиной увольнения стало повышение компанией тарифов на электроэнергию на 8,5% для всех категорий потребителей. Повышение тарифов хоть и было одномоментным, но не стало неожиданностью, ибо было загодя согласовано с Всемирным банком с целью привязки тарифов к уровню инфляции для привлечения зарубежных инвестиций. Кроме того, индексация тарифов была одобрена национальным регулятором EWURA. Повышение тарифов на 8,5% оказалось существенно ниже изначально намеченного, но всё равно было расценено президентом Д. Магуфули как неоправданное. Стоит отметить, что новоизбранный Д. Магуфули оказался на должности в качестве компромиссного кандидата в результате внутренних интриг в правящей партии, и потому поначалу действовал осторожно, стараясь учитывать интересы всех разнонаправленных политических сил. Увольнение директора TANESCO стало первым самостоятельным шагом президента страны. В качестве обоснования Д. Магуфули привёл программу правящей партии и собственные взгляды на перспективы развития страны: «Мы лишаемся возможности развивать промышленность, разрабатывать планы по снабжению электроэнергией сельских регионов… лишь потому, что кто‑то в силу своего должностного положения произвольно повышает тарифы. Это неприемлемо» [5, с. 7]. Данное высказывание следует рассматривать как квинтэссенцию проводимой при правлении Д. Магуфули энергетической политики: в рассматриваемый период 2017–2021 гг. танзанийские власти отдавали приоритет ускоренной индустриализации экономики на основе дешевой энергии, причём особый акцент делался на электрификацию сельских регионов, население которых представляло собой электоральную базу правящей партии. В ответ Всемирный банк отменил предоставление третьего по счёту транша из серии взносов по 100 млн долл. США на рекапитализацию TANESCO. Формальным основанием данного шага стали проволочки властей с имплементацией достигнутого ранее соглашения между Танзанией и Всемирным банком по расширению поставок электроэнергии, произведённой частными компаниями с западным участием. В посвящённом Танзании разделе годового отчёта Всемирного банка, обнародованном в декабре 2017 г., было указано, что обе газовые электростанции проекта Kinyerezi так и не были приватизированы, а «политика государства по отношению к участию частного сектора в будущих энергетических проектах остаётся неясной» [5, с. 8]. Тем не менее правительство президента Д. Магуфули продолжало гнуть свою линию по закреплению преобладающей роли государства в энергетике. Так, в 2019 г. власти изыскали средства на увеличение мощности на 185 МВт газовой электростанции Kinyerezi‑1, владельцем которой является государственный концерн TANESCO. Строительство дополнительных генерирующих мощностей было призвано покрыть возникший дефицит электроэнергии на рынке, покуда продолжалось строительство ГЭС в рамках проекта JNHPP [5, с. 9].
Начавшийся в 2017 г. период противостояния танзанийских властей с международными организациями и влиятельными финансовыми структурами завершился в марте 2021 г. со скоропостижной смертью президента Д. Магуфули. Через два дня после ухода из жизни Д. Магуфули его должность перешла к вице-президенту страны Самии Салуху Хассан (Samia Suluhu Hassan) . Первая в истории Танзании женщина – глава государства – сразу взяла курс на разрешение накопившихся противоречий с западными донорами и инвесторами. В первую очередь власти смягчили подход к нормативному регулированию прав собственности на электрогенерирующие мощности. Зарубежным инвесторам снова было разрешено участвовать в реализации энергетических проектов в Танзании. Были упрощены правила проведения тендеров на строительство ветровых и солнечных электростанций. Если раньше заявки потенциальных инвесторов на участие в тендерах подавались в Министерство финансов Танзании (где нередко их дальнейшая судьба оставалась неясной), то с начала 2022 г. такие заявки стала в ускоренном порядке рассматривать команда экспертов из госкомпании TANESCO. Реакция иностранных предпринимателей не заставила себя ждать: уже в 2021 г. возобновилась реализация новых электроэнергетических проектов. В частности, в мае 2021 г. было подписано первое соглашение такого рода – о строительстве ГЭС Малагараси мощностью в 50 МВт. Финансировать проект предполагалось из двух зарубежных источников – посредством займа от Африканского банка развития (англ. сокр. – AfDB) и из формально ассоциированного с AfDB фонда, за которыми на деле стояли китайские инвесторы. Месяцем позже состоялось подписание второго энергетического проекта с зарубежным участием. На сей раз в качестве иностранного инвестора выступило Французское агентство по развитию (англ. – French Development Agency, сокр. – AFD), а с танзанийской стороны соглашение подписало государственное министерство финансов. Французская сторона обязалась профинансировать строительство солнечной электростанции производительностью в 50 МВт в Шиньянге. Характерно, что все возводимые объекты формально считались государственной собственностью (право собственности регистрировалось на госкомпанию TANESCO), хотя строительство велось на средства частных инвесторов. Особенно знаковым стоит считать возвращение западного капитала в танзанийский энергетический сектор. Собственно, Французское агентство по развитию одобрило техническое обоснование проекта солнечной электростанции в Шиньянге ещё в 2016 г. и выделило финансирование на строительство в 2019 г. Реализация проекта поначалу затянулась из-за аппаратных игр внутри танзанийского Министерства финансов. Причин для последующих изменений в энергетической политике Правительства Танзании, в том числе в отношении к зарубежному капиталу в энергетической отрасли, было две. Во-первых, уже в самом начале своего нахождения на посту новый президент страны С. Хассан заменила практически всё руководство энергетической отрасли. Среди вновь назначенных функционеров было много приверженцев либерального подхода к экономике. В сентябре 2021 г. был отправлен в отставку министр энергетики М. Калемани, его преемником стал Дж. Макамба – давний протеже бывшего президента Д. Киквете и сторонник реформирования энергетического сектора на основе принципов рыночной экономики. При правлении президента Д. Магуфули Дж. Макамба некоторое время занимал пост министра по делам окружающей среды, но был уволен за праволиберальные взгляды в 2019 г.
После назначения на пост министра энергетики, Дж. Макамба объявил о намерении реформировать национальный энергетический сектор, разделить энергетическую монополию TANESCO на профильные компании, и создать новую систему формирования тарифов на передачу и приобретение электроэнергии согласно принципу экономической целесообразности. Дж. Макамба расставил своих единомышленников на ключевые посты в Министерстве энергетики и в TANESCO. Главой TANESCO стал функционер, отвечавший в правление президента Д. Киквете за проведение преобразований в экономике, а исполнительным директором монополии и вовсе был назначен выходец из частного сектора – невиданное до сих пор для Танзании явление. Во-вторых, страну в очередной раз поразила засуха, и падение выработки на ГЭС вкупе с перебоями в подаче электроэнергии снова заставило власти думать о диверсификации энергетического баланса. Проблема укрепления энергетической безопасности в общенациональном масштабе затмила в какой‑то момент межпартийные и межрегиональные противоречия, заложницей которых в Танзании традиционно становилась энергетическая отрасль. Правительство принялось обсуждать проведение реформы национальной энергетики, которая была свёрнута при правлении президента Д. Магуфули. Был снят негласный запрет на проведение тендеров по реализации проектов в области солнечной и ветровой генерации. При этом подразумевалось, что за некоторыми номинальными участниками подобных тендеров стояли западные инвесторы. Снова стали появляться и другие проекты на основе частно-государственного партнёрства, когда зарубежные компании представляли планы строительства или реконструкции генерирующих мощностей в сотрудничестве с концерном TANESCO. По состоянию на апрель 2022 г. танзанийские власти вели переговоры с пятью зарубежными компаниями о строительстве трех солнечных электростанций мощностью 50 МВт каждая и двух ветровых электростанций мощностью по 100 МВт с правом последующей реализации производимой на указанных объектах электроэнергии. С упрощением процедуры регулирования тендеров танзанийский энергетический сектор снова стал интересен западным инвесторам. К марту 2023 г. в стране активно работали компании из США, Великобритании, Франции, Норвегии и Японии. Залогом успеха для работы на танзанийском энергетическом рынке для зарубежных инвесторов стал более гибкий подход к юридическому оформлению права собственности на создаваемые ими генерирующие мощности – в отличии от традиционно продвигаемого Всемирным банком режима наибольшего благоприятствования для иностранных компаний при работе в развивающихся странах [5, с. 10]. Показательным примером здесь служат два проекта: солнечная электростанция Кишапу мощностью в 50 МВт (возводимая на средства Французского агентства по развитию) и ГЭС Каконо мощностью в 87 МВт (соглашение о строительстве которой, подписанное в начале 2023 г., предусматривало софинансирование на средства всё того же Французского агентства по развитию, а также Африканского банка развития и Евросоюза). В обоих случаях инвесторы согласились на регистрацию права собственности на возводимые генерирующие мощности в пользу TANESCO. Впрочем, невзирая на определённую уступчивость западных инвесторов, танзанийскую правящую партию по-прежнему раздирали противоречия по отношению к роли государства в энергетической отрасли. Часть функционеров с подозрением относилась к ослаблению контроля за зарубежным присутствием в национальной энергетике. В последние месяцы своего пребывания в должности министра энергетики Дж. Макамба также несколько отошел от своей линии на приоритетное привлечение зарубежных инвесторов в электрогенерирующий сектор. В этот период Дж. Макамба неоднократно обращался к представителям танзанийского частного сектора с призывами инвестировать в развитие национальной энергетики, дабы не отдать её полностью на откуп иностранным компаниям.
Противоречия в правящем лагере обострились к концу 2023 г., когда ряд руководящих постов в правящей партии и в госаппарате снова заняли приверженцы политики покойного президента Д. Магуфули. Так, в сентябре 2023 г. министр энергетики Танзании Дж. Макамба был переведён на должность министра иностранных дел, новым министром энергетики стал Д. Битеко. При правлении президента Д. Магуфули Д. Битеко занимал пост министра минеральных ресурсов. Одним из первых шагов Битеко на должности министра энергетики стала замена своими ставленниками генерального директора и председателя совета директоров энергетического монополиста TANESCO. Министр Д. Битеко также инициировал проверку и пересмотр проектов соглашений с зарубежными нефтегазовыми компаниями по освоению крупных офшорных газовых месторождений на танзанийском шельфе, которые были разработаны и практически готовы к подписанию под руководством его предшественника [5, с. 10]. Формальным поводом для кадровых перестановок стала якобы неспособность прежнего руководства энергогиганта ликвидировать дефицит электроэнергии вследствие затянувшейся засухи общенационального масштаба. Более того, Президент Танзании Самия Салуху Хассан назначила Д. Битеко одновременно и вице-премьером правительства. Причиной усиления позиций приверженцев политики покойного президента Д. Магуфули стала якобы чрезмерная уступчивость правительственных чиновников по отношению к зарубежным инвесторам. Правда, в данном случае речь шла уже не о западных компаниях, а о предпринимателях из ОАЭ. Резкое усиление позиций сторонников политики Д. Магуфули случилось после передачи части порта Дар-эс-Салам в коммерческое управление портовому оператору из ОАЭ – компании Emirati DP World, одной из крупнейших в мире в своей сфере. Сразу после обнародования данной сделки, вызвавшей недовольство в политических и предпринимательских кругах Танзании, президент страны Самия Салуху Хассан ввела в состав правительства не только упомянутого Д. Битеко, но и ряд других бывших функционеров из администрации покойного Д. Магуфули, разделявших критические взгляды на присутствие зарубежных инвесторов в стратегически важных секторах национальной экономики. Говоря о работе инвесторов из ОАЭ в Танзании, необходимо отметить, что в последние годы по активности в энергетическом секторе страны они практически не уступают конкурентам из стран Запада. В ходе государственного визита Президента Танзании в ОАЭ в феврале 2022 г. (делегация включала и министра энергетики) танзанийская делегация позитивно отреагировала на интерес местных деловых кругов к энергетической отрасли своей страны. В августе того же года между TANESCO и эмиратской компанией Masdar был подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству в Танзании на средства инвесторов из ОАЭ генерирующих мощностей возобновляемой энергетики совокупной производительностью в 2000 МВт.
Описанная ситуация продолжается в вялотекущем режиме и в настоящее время. По официальным данным, Танзания по состоянию на май 2023 г. имела очень благоприятное соотношение производства и предложения электроэнергии: заявленная совокупная производительность генерирующих мощностей страны составляла 1,9 ГВт, в то время как в пик потребления спрос якобы достигал лишь 1,432 МВт. На практике в течение 2023‑начала 2024 гг. имели место неоднократные и продолжительные периоды рационирования электроэнергии для потребителей по всей стране. Причинами тому называются продолжительная засуха и массовый выход из строя ветшающего оборудования электростанций и передающей инфраструктуры вследствие хронического недостатка финансирования [9, с. 65]. Сложившаяся ситуация проистекает из по-прежнему нерешённых политических и правовых неопределённостей с заключением и исполнением инвестиционных соглашений в энергетической сфере. Несмотря на благоприятные критерии проведения тендеров и выгодные предложения инвесторов, переговоры между ними и властями неизменно заходят в тупик при обсуждении финансовых условий реализации электроэнергии, которую должны производить на планируемых к строительству электростанциях. Ожесточенные споры возникают из-за вполне обоснованного желания зарубежных инвесторов включить в указанные соглашения положение «бери или плати», оговорки о передаче возможных будущих споров на рассмотрение в международные арбитражные суды и требований инвесторов к Правительству Танзании о предоставлении различного рода официальных гарантий по защите своих интересов. Танзанийские власти, в свою очередь, отказываются идти навстречу зарубежным инвесторам в перечисленных вопросах. Проведение тендеров на строительство новых ветровых и солнечных электростанций было официально приостановлено в начале 2023 г. В это же время зашли в тупик и переговоры правительственных чиновников с крупными западными нефтегазовыми компаниями (такими как Shell, Equinor и др.) на предмет разработки танзанийских месторождений углеводородов: местная пресса практически в открытую обвиняет западные правительства и концерны в использовании неоколониальных методов ради достижения своих целей [15]. Начиная с этого периода, в танзанийской политической элите снова имеют место острые разногласия по поводу дальнейшего пути развития национальной экономики и роли, которую должен играть при этом энергетический сектор [5, с. 10]. С конца 2023 г. и по настоящее время отсутствует ясность, в какую сторону будет направлен вектор государственной политики в энергетической сфере вообще и как это отразится на развитии танзанийского энергетического сектора в частности [5, с. 9]. Между тем танзанийский ТЭК отчаянно нуждается в крупных капиталовложениях и новых технологиях, получить которые возможно только из-за рубежа. Так, в одно лишь месторождение Mnazi Bay, на которое в 2024 г. приходилось 48% совокупной газодобычи страны, требуется инвестировать порядка 550 млн долл. [16]. Сложившиеся условия явно не способствуют достижению заявленной правительством цели – создать к 2044 г. генерирующие мощности совокупной производительностью в 20,2 ГВт [9, с. 70].
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
- Танзания как страна с богатыми энергетическими ресурсами и стабильно высоким спросом на энергию традиционно привлекает зарубежных инвесторов. Иностранные компании заинтересованы как в добыче углеводородов, так и в создании и эксплуатации энергетической инфраструктуры, а также в реализации электроэнергии в стране.
- С момента обретения независимости и до начала 2010‑х гг. западные государства занимали прочные позиции в энергетическом секторе Танзании и располагали потенциалом для влияния на энергетическую политику страны в выгодном для себя ракурсе. Это был период классического неоколониализма, понимаемого как осуществление контроля над политикой бывших колониальных владений со стороны прежних метрополий и других стран, входящих в так называемый «золотой миллиард». Указанный контроль над политикой (в том числе энергетической политикой) постколониальных стран осуществляется посредством использования технологической и финансовой зависимости бывших колоний от государств Запада. Проводниками для реализации указанной зависимости являются учреждённые западными странами международные организации различного профиля и связанные с Западом предпринимательские и коррумпированные политические элиты зависимых стран, что отчётливо заметно на примере Танзании.
- Начиная с 2010‑х гг. и по настоящее время безраздельное прежде влияние западных государств на формирование энергетической политики Танзании начинает ослабевать в связи с ростом экономического (в том числе технологического и финансового) влияния КНР в Африке. Нынешний период отмечен также появлением на энергетическом рынке Танзании компаний из других незападных стран – Японии, Малайзии и с недавних пор ОАЭ.
- Говоря о влиянии зарубежных государств на энергетическую политику Танзании в настоящее время, важно не переоценивать силу этого влияния. Как видно из изложенного, танзанийские правящие элиты на протяжении всей постколониальной истории страны охотно прибегали и прибегают к использованию иностранных финансовых и технологических ресурсов для воплощения в жизнь своих концепций социально-экономического развития страны и для укрепления собственного влияния в своей электоральной базе. Особо сильное стремление привлекать финансирование, технологии и специалистов из-за рубежа танзанийские власти традиционно проявляют в сложные для национальной экономики времена – такие, как периоды природных бедствий и финансовых неурядиц. В течение последних двух десятилетий зарубежные инвесторы идут на серьёзные уступки по отношению к танзанийским властям, имея намерения на долговременное присутствие на местном энергетическом рынке. Но, как видно из изложенного, сами правящие круги Танзании не всегда проявляют заинтересованность в формировании позитивного инвестиционного климата в стране.
- Особенностью формирования и проведения энергетической политики в Танзании является её инструментализация ради достижения внутриполитических целей. Тесно переплетённые друг с другом политические и предпринимательские элиты страны используют сотрудничество своих оппонентов в энергетике с зарубежными странами и организациями в качестве аргумента для сведения счетов друг с другом и перераспределения влияния в свою пользу. Кроме того, энергетическая политика подвергается и влиянию танзанийских внутрирегиональных противоречий, когда политики при реализации энергетических проектов отдают предпочтение регионам, выходцами из которых они сами и являются.
- Перечисленные проблемы тормозят развитие энергетической отрасли Танзании и ощутимо затрудняют работу в ней зарубежных инвесторов (причём не только западных), что необходимо иметь в виду и российским компаниям при оценке перспектив работы в указанной стране.